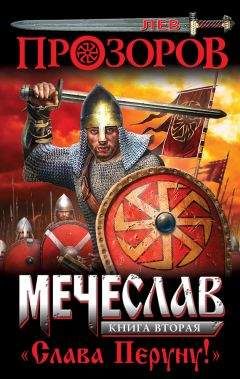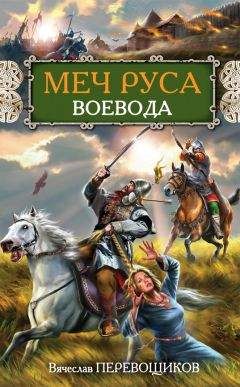Лев Прозоров - Я сам себе дружина!
Названия сёл Бажера не помнила – да и вряд ли слышала.
– У нас так многие девки ходят, – повторила она. – Чтоб наёмники не заглядывались. Только… не всегда помогает.
Мечеслав повернул голову, вопросительно взглянул на девушку.
– Там иным всё едино, девка или малец. А есть, кому мальцы больше нравятся, – тихо и ровно сказала по-прежнему глядевшая в тень Бажера.
Мечеслав сперва не понял. А понявши, не поверил своим ушам. То есть… то есть он слышал о срамных повадках коганых племен от старших воинов, и… и верил, конечно – как не верить! И всё-таки не ждал услышать об этом от того, кто видел. Кто жил рядом с когаными. От такого не то что щекам, глазам в глазницах становилось жарко, голова пухла надутым звонким пузырём.
– Ты… видела? – Вопрос сорвался с языка раньше, чем он полностью понял, кого и о чём спросил – и пожалел, что не поперхнулся, выговаривая.
Бажера вздохнула – в свете печи видно было, как поднялись и опали под тонкой девичьей кожей ребра. И стала рассказывать.
Первую весть о беде подал бабий вой. Мальчишку, двенадцатилетнего Ракшу, сына Ждана Половодья, нашли в клети, висящим на собственном гашнике. У Ждана было пятеро сыновей, Ракша – средний. Не старший, надежда отца. Не младший, утешение матери. Наткнись хлопец в лесу на медведя, не сумей вынырнуть из омута, свались неудачно с лошади, сляг и не встань под жаркими ласками лихоманки-веснухи – Половодье с женой погоревали бы да утешились – Боги дали, Боги и взяли, Их воля. Но не сейчас. Люто и страшно было оттого, что начинавший ещё только жить юнец наложил на себя руки в родном своём дворе.
Вскоре нашлись и свидетели непотребства, после которого Ракша не захотел жить, не захотел срамить отца с матерью и весь свой род. Перепуганные до полунемоты двое подруг-семилеток, Синичка с Ягодой. Тут-то и вспомнился всем смугляк-наёмник из каких-то совсем уж дальних, между восходом и полуднем, земель, со странным для коганого равнодушием скользивший взглядом по женским и девичьим статям. Зато стоило появиться перед ним мальчишке или крепко сложенному парню из еще не отпустивших усы – большие, чуть на выкате, с синеватым белком, чёрные глаза чужака словно топлёным маслом заливало. В доме кузнеца его тоже нехорошо помнили – заимел было наёмник привычку заезжать в кузницу, когда Зычко с подмастерьем-молотобойцем работал, и стоять, прислонившись к воротам, подолгу глядя не на огонь в горне, не на рождающееся из малиново-красного железа под ударами легкого молота-кладива и тяжелого ковадла[9] поковье – на полуголое тело юного молотобойца, на перекатывающиеся под гладкой молодою кожей мышцы. Маслились темные глаза, обмякали сладко и наливались густо-алым полные, по-женски мягкие на вид губы под чёрными усами. Зычко пару раз наорал на чужака – железо, мол, сглазишь, раз не с заказом пришёл – гуляй своей дорогой. Наёмник поглядел зло, но с кузнецом задираться не стал – кузнец в городе человек нужный, мытарь за ссору с ним, тем пуще – за увечья, не похвалит. Мерзкие гляделки прекратились.
В городке на Оке слыхали об этом, пожалуй, и почаще, чем в лесных логовах, но так же, как только что Мечеслав, никак не могли по-настоящему взять в ум – это не срамные побасенки, это – есть. Даже когда увидели того чужака – всё равно не могли.
Не могли – до поры. Да вот пришлось.
Увидев собирающуюся на торжке толпу, наёмники, бывшие в тот день на разъезде, насторожились. Младший заорал сердито, тряся плёткой, но другой, постарше, толкнул товарища в бок. Коганые развернули коней к мытареву подворью. Их не тронули – того, что бесчестьем сгубил юного Ракшу, меж них не было.
Мытарь встал над воротами, двое наймитов держали перед ним большие щиты, так что виднелась только чернобородая носатая голова в островерхом войлочном колпаке. Закричал, ломая вятическую речь, видать, с перепугу – сидел в городе уже который год и ровно говорить выучился. Поминал договор, что вече заключило с посланцами Итиля – не чинить обиды мытарям и их людям. Грозил гневом Казари.
Молодые лезли на слом. Старейшина сдерживал – хотел разрешить дело малой кровью, договориться. Ведь не пустою угрозой были слова мытаря – до Казари не так было и далеко, а стояла в ней конная сотня. И пусть настоящих, забранных в железо от конских колен до яловцов обмотанных полотнищами шлемов, хазарских бойцов промеж ними была едва дюжина – городу и той дюжины, не говоря об остальной сотне, могло стать много. Старейшина требовал выдать сквернавца-наёмника, обещал на том разойтись.
Мытарь драки тоже совсем не хотел – отнюдь не боевитый, не купец даже, купчишка из далёкого хазарского города, опрометчиво решивший поправить пришедшие в упадок дела, откупив показавшуюся хлебной должность в лесном краю. Увы, хлопот от неё оказалось много больше, чем прибыли, а сейчас и вовсе подходил край. Но с наёмниками он не хотел ссориться ещё больше – они стояли рядом, а вятичи всё же – по ту сторону тына.
Хазарин вертелся ужом на глиняной сковородке. Ведь не было убийства? Не было! За что ж тогда требовать крови?! Парень сам наложил на себя руки, при чём тут его человек? Что до насилья – то кто его видел, девчонки? Так разве ж они свидетели… Но если что и было – он готов заплатить… сколько полагается за бесчестье?
Он так и не понял, почему стало тихо перед тыном его подворья.
Отодвинув старейшину в сторону, вышел всклокоченный мужик с рабочей секирой в большой красной руке, с черными тенями, залегшими вокруг серых глаз.
Так было тихо, что и стоявшие над тыном услышали его сдавленный хриплый голос:
– Сына моего бесчестье да смерть серебром оценишь, хазарин? У пояса мне потом его носить или за пазухой?!
Вздохнул клекочуще – и вдруг швырнул топор. Лезвие вгрызлось в подставленный наёмником щит над головою присевшего мытаря. В ответ хлестнули тетивы – и Ждан Половодье, споткнувшись на ровном месте, замер. Тяжко повернулся к соседям-сородичам, глянул, будто винясь, уже гаснущими глазами и рухнул навзничь – к небу древками пробивших широкую грудь стрел.
Взвился женский крик, молча шатнулась вперёд толпа, кричал что-то старейшина, надрывался хазарин, вновь ударили стрелы – теперь уж кричали раненые, и толпа разбежалась по дворам – чтоб вернуться, заслоняясь снятыми с петель дверями избушек, щетинясь вилами-двойчатками, косами, охотничьими рогатинами и простым дрекольём. Ударили стрелы и из-за коньков окружавших подворье мытаря построек. Пускали их простыми охотничьими луками, не боевыми рогачами, да и наконечники зачастую были костяные или попросту калённые на огне. Зато было их много. Пробивать кольчатую да стеганую броню наёмников они не пробивали, но не давали и высунуться.
На ходу мужики совещались. Старейшина крепко стоял за то, чтоб снова говорить с хазарином – уж теперь-то выдаст наёмника, голова за голову. Другие спорили, предлагали звать лесных. Только идти до тех было далеко, и точной дороги никто в городе не знал. Третьи советовали подпалить подворье, их одёргивали – ветер да огонь не глядят, кто прав, кто виноват, кто вятич, кто хазарин – выгорит город весь…
Не случилось ни того, ни другого, ни третьего.
Распахнулись ворота подворья, рванулись вперёд с оглушительным воем конники. Стоявшим перед воротами парням, только взявшимся было подволакивать сани, перегородить дорогу, показалось со страху – на них летит из подворья невесть как взявшаяся там сотня. А была – всего дюжина.
Срубив да стоптав замешкавшихся на их дороге, наемники понеслись к оставленным без охраны воротам, на помосте над которыми заметался оставленный в дозоре мальчишка, сверстник погубленного Ракши. Когда уже дюжина проносилась под ним, спохватился схватить камень из кучи, с дохазарских ещё времен лежавшей на всякий случай, да кинул, не глядя, вниз.
Целился бы – лучше не вышло. Каменюка в две головы глухо охнула в пёстрый халат мытаря, скользнула по враз согнувшейся вперёд спине на круп коня и наземь. За ней было повалился и хазарин, ближние наёмники подхватили за шиворот да за рукава, не давая едва ль не мёртвому ещё телу вывалиться из седла.
Так и унеслись. В городке не было коней, на которых можно было б гоняться за долгоногими печенежскими да угорскими аргамаками, что ходили у наёмников под сёдлами.
Когда поняли, что стряслось, вся смелость и решимость стекла с горожан холодным потом. Могли б простить смерть наёмника, хоть и причли бы к податям немалый откуп. Но смерти хазарина-мытаря – никогда. Иные наладились и вовсе собирать пожитки и уносить из города ноги, не дожидаясь гнева Казари. Не дали – вместе гуляли, вместе и ответ держать. Подаваться всем городом на дальние выселки, под руку лесных да болотных верховых городцов, что стали убежищем не принявших решение веча родов… одних не пускала привычка к земле, к месту, где их ремёсла были нужны, привычка, пересиливавшая даже страх перед неизбежной теперь карою из Казари. Ведь покарают-то не всех… авось и пронесёт. Других держало понимание, что бегство разъярит хазар по-настоящему – и что тогда? Может статься, тогда и кара будет страшней. А чтобы за город расплачивались ни в чём не повинные соседи…