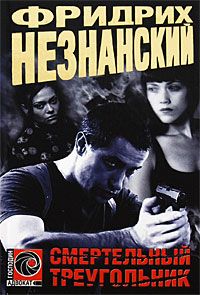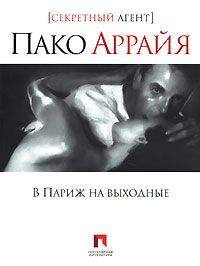Неправильный красноармеец Забабашкин (СИ) - Арх Максим
«Я ранен. И, в общем-то, этого вполне должно быть достаточно. Ведь из боя я „вышел“ не один, а ещё со множеством тоже раненых камрадов, — приходил к очевидной мысли я. — Я весь в грязи. А значит, я вполне легко смогу сойти за своего и влиться в нестройные ряды отступающих».
На первый взгляд всё было продуманно и вполне убедительно. Правда у самой переправы я заметил шестерых военных, у которых на груди на цепях висели бляхи — горжеты. И этот броский аксессуар говорил о том, что орудуют там не просто солдаты и офицеры Вермахта, а полевая жандармерия. Они стояли на другом берегу реки и пытались организовать раненых бредущих солдат. Я даже заметил, что некоторых пехотинцев они останавливают, осматривают и после не долгих разговоров пинками отправляют обратно на наш берег. Судя по всему, таким образом, они возвращали военнослужащих, не получивших ранения, обратно в боевые порядки.
Страх умереть в бою на войне витает всегда. Он не обращает внимания на сторону в противостоянии. Он не обращает внимания на возраст и былые заслуги. Он просто живёт там, где боль, страдания и смерть. И сможет человек противостоять ему или нет, зависит только от воли человека. А потому трусость не такое уж и редкое явление на войне. Человек всегда хочет остаться в живых. Именно по этому, чувствуя в такие моменты чрезмерную опасность, многие не могут с собой совладать и становятся предателями, трусами, паникерами, дезертирами.
Сейчас я видел, как это чувство поразило некоторое количество войск противника. Я наблюдал, как военная полиция пнула, как минимум, десяток солдат. Но это были лишь те, кого полицейские успели осмотреть, проверить на ранение и разоблачить.
А ведь тех, кто их обходил по дуге тех, которые переплывали реку не обращая внимание на брод, кто бежал без оглядки, не слушая окриков и не обращая внимание на предупредительную стрельбу в воздух, было не так и мало. Да что там говорить, много было этих самых «возвращенцев». И сейчас, сфокусировав на бегунках зрение, я видел, что как минимум половина из них не ранено и не контужено.
А по-другому и быть не могло! С основной массой наступающих войск врага, работал лично я. А я, исходя из человеколюбия к данным захватчикам, в живых старался никого не оставлять. Отсюда и раненых по всей логике, должно было быть максимум человек тридцать, а никак не две сотни.
В общем, трусость и бегство вражеской пехоты из обездвиженной колонны меня не только удовлетворили, но и обнадёжили. Теперь я понял, что в этом переполохе мне будет довольно легко сойти за «своего».
И я решил, что теперь скрываться нет смысла. Приподнялся и, чуть пригибаясь, припадая на одну ногу, направился к реке. Не став вешать винтовку на плечо, достигнув берега, спустился к воде. Винтовку я сжимал в руках не просто так, а демонстрировал всем, что оружие я не сложил и из боя вышел только по необходимости.
Мой выход из лесополосы, к счастью, никакого не нужного ажиотажа не вызвал. Оно и понятно таких, как я, было не мало. Обрадовавшись этому факту, посматривая по сторонам, направился к броду. В это время в воде переправлялись на другой берег около десяти человек. Не стал медлить, а пристроившись за двумя ранеными, у которых были замотаны головы, поднял оружие вверх и, держа его обеими руками над головой, начал переход на противоположный берег.
Переправа заняла меньше минуты. Уровень воды тут был не высок, глубина доходила мне до груди. И хотя дно в этом месте было немного илистое, тем не менее, река была ту не быстрая, и форсированию течением не мешала.
Выбрался на берег. Согласно придуманной модели поведения «тяжко раненый», опустился на песок, положил винтовку рядом и двумя руками дотронулся до места раны, при этом скорчив страдальческую гримасу.
Глядя на невдалеке устраивающихся двух недобитков, что форсировали реку чуть ранее, я упрекнул себя за то, что не додумался «усилить» свои ранения.
«Эх, надо было бы мне тоже голову бинтом перемотать. А собственно, почему бы и нет? Осколки, которые летели от взрывов снарядов, а также камни, щепки и земля, лицо мне тоже царапали. На крайний случай, можно было бы финкой себе пару надрезов сделать. И тогда бы моё алиби в том, что с поля боя я отступаю не просто так, а только лишь из-за множества тяжелейших ранений, было бы более весомым. Так же, моя легенда была вилами по воде писана и, наверняка, ко мне по этому поводу военные полицейские пристанут. Ранен-то я в ногу и её так просто не видно. Скорее всего, если пристанут, то рану нужно будет предъявлять».
И я как в воду глядел.
— Эй, солдат. Ты почему не с подразделением⁈– раздался бас за спиной, когда я только расположился на более-менее чистом участке пляжа.
— Я ранен, — не поворачиваясь, промямлил я, протягивая руки к сапогу.
— Ранен? Где? Что-то я не вижу.
— Нога…
— Не видно ничего! Где⁈ А ну покажи своё ранение?
И тут сердце у меня замерло.
«Ёлки-палки! У меня же, в том месте, где рана, немецкие штаны, которые я надел позже, не порваны. И если это заметят, то тот факт, что у меня бинты все в крови, а штанина целая, обязательно вызовет подозрения и, как следствие, кучу вопросов. Вот я сглупил!»
Однако, хотя я и совершил оплошность, но на самом деле не считал её роковой. Я надеялся, что общая нервозная обстановка, бой, идущий совсем рядом, стоны и плачь раненых, а также грязь и дождь, не дадут детально осмотреть моё ранение и обратить внимание на то, что оно получено уже несколько дней назад, совсем при других обстоятельствах, и когда на мне была совершенно другая форма.
— Ну, быстрее! — поторопил голос.
— Сейчас, сейчас, — закивал я и, повернувшись, увидел стоящего передо мной жандарма.
Жирный боров с засученными рукавами, в каске и с MP-40, он очень напоминал своим здоровенным, чуть сгорбленным видом, палача, как их изображают в фильмах и книгах.
Массивные, длинные как у гориллы руки, злобные ненавидящие весь мир глаза, оскал, и ужасный утробный бас, говорили о том, что с таким человеком лучше не встречаться, особенно в застенках Гестапо.
Уже краем глаза видя, кто стоит за спиной, в момент поворота, чтобы тот, кто меня зовёт сразу же проникся состраданием, на всякий случай, максимально возможно, исказил лицо.
Собственно мне и играть-то особо не было нужды. Нога и так болела, а если учесть что ещё и голова буквально раскалывалась, то переносимая боль вполне честно отражалась на моей физиономии.
Посмотрел на меня своим пронзительным взглядом всего секунду, глаза его расширились и он, отпрянув назад, повернувшись всем корпусом, во всю глотку проорал:
— Эй, вы, двое, ко мне! Бегом! Бегом, я сказал!
«Чёрт возьми, не получилось. Вот же не повезло! Первый же гад меня сразу же раскрыл. Ну что ж, придётся принять бой. Буду валить всех подряд и сколько смогу столько с собой на тот свет заберу», — пронеслись мысли в голове, пока рука тянулась к лежащей рядом винтовки.
Но, к счастью, применить её я не успел, потому что боров продолжил басить:
— Тащите скорее носилки! Здесь парню совсем плохо. Он весь в крови! С глазами у него что-то, он в очках. А лицо вообще одно сплошное месиво. Даже кожи нет!
Последние слова меня несколько удивили, когда я понял о чём идёт речь. Ну, про очки было понятно. Глаза всё ещё раздражались от дневного света. Конечно, не так как в первый день, но всё равно без них при дневном свете начинали слезиться. А вот про лицо, я не совсем понял, что там «палач» имеет в виду.
«Как так, нет кожи? А где она?» — ошеломлённо подумал я, дотрагиваясь до своей щеки.
В том месте, до которого я дотронулся, лицо вспыхнуло нестерпимой болью.
— А, чёрт! — простонал я, стараясь не позабыть, что я среди врагов и даже стонать и ругаться надо по-немецки.
Встал на четвереньки и подполз к воде. Посмотрел на отражение. Но из-за волн и мути ничего толком разглядеть не сумел. Просто какой-то красный овал и два глаза.
«Это что, меня так осколками, что ль, посекло? Чего всё красное-то⁈» — задал я себе очередной вопрос.