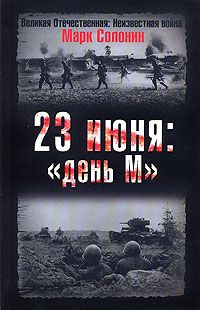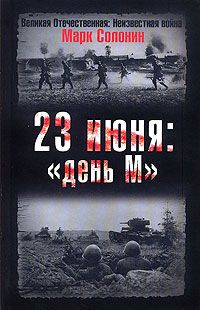Владислав Русанов - Гонец московский
В конце концов парень уяснил-таки, что удерживать повод нужно не слишком сильно, но не отпуская его, чтоб свободно болтался. Что, когда хочешь повернуть коня, нужно один повод натягивать, а второй придерживать, иначе удила изо рта выскочат, и придется их обратно запихивать. Что нельзя крепко прижимать конские бока голенью, потому что он тогда начинает прибавлять ходу и может поскакать. К этому прибавились и многие другие мелочи, которые и в голову не могут прийти человеку, привыкшему в путешествиях больше полагаться на свои ноги.
Перед сумерками Никита спешился, стреножил коня – мышастый тут же принялся разгребать копытами снег, выискивая съестное, – а сам развел костерок, наспех пожевал сухую корку, «запив» ее пригоршней снега. После усталость взяла свое, и парень заснул.
Спал он плохо. То просыпался от фырканья пасущегося коня, то чудился отдаленный волчий вой, то казалось, будто кто-то смотрит на него. Только накрыв ладонью лапоть, лежащий тут же, под дерюгой, которой Никита укрывался, парень забылся в более-менее крепком сне. Да и то вскочил задолго до рассвета.
За ночь ветер стих и лес стоял будто выточенный мастером-умельцем из дорогого заморского камня. Голые березовые ветки и еловый лапник покрылись тонкой опушкой инея. Даже конь побелел, став из мышастого сивым.
Согрев кипятка в горшочке, Никита перекусил, больше переживая не за себя, а за коня. Но степной жеребец, видимо, накопытил себе достаточно побитой морозом травы и выглядел довольным и отдохнувшим. Даже с благодарностью принял с ладони парня корку хлеба с солью.
Второй день прошел скучно и почти незаметно.
Бо́льшую его часть парень приноравливался к скакуну, постепенно находя с ним общий язык. На ночевку остановился еще раньше – выделил время вспомнить, как учил его Горазд драться прямым мечом. Напрыгавшись так, что пар от спины валил, Никита заснул быстрее и крепче, чем прошлый раз. А чтобы костер не потух раньше времени, положил с двух сторон от него две валежины.
Ночью Никите снился маленький старичок с круглыми, как у филина, глазами и пушистой белой бородой, который ходил вокруг него и тлеющих углей костра, качал головой, охал и вздыхал, опасливо прикасаясь коротким пальцем к холодно отсвечивающему лезвия теча. Потом деловито передвинул бревнышко чуть дальше, чтобы жар от углей лизал непрогоревший бок, подоткнул дерюгу под Никитой, а сам уселся в изголовье и долго перебирал волосы человека, приговаривая голосом Горазда: «Стерегись, Никитша, по сторонам поглядывай… Горе у тебя позади, испытания впереди – нужно крепким быть, как камень-кремень, хитрым быть, как рыжий лис, осмотрительным быть, как олень на водопое… А не то сожрут – не подавятся, косточки выплюнут… Часто назад оглядывайся, внимательно вперед всматривайся. Друзей привечай, а врагов на заметку бери».
«Эх, дедушко, – хотел ответить парень, – как же мне их различать? Знал бы, где упадешь, соломки подстелил бы… А так! Что толку угадывать – кто друг, кто враг?» Но не смог пошевелить губами, а домовой бормотал, бормотал… И вслед за звуками его голоса, таявшими среди безмолвия заснеженного леса, отступала усталость, уходило горе и разочарование.
Проснувшись, Никита бережнее, чем давеча, поднял лапоть и, поклонившись домовому, спрятал его за пазухой.
Шел третий день пути, а значит, он уже вступал в пределы Московского княжества.
Еще одна ночевка… ну, самое большее, две… и он увидит рубленый Кремль на Боровицком холме, а там и поговорит с Иваном Даниловичем или Олексой Ратшичем. Они люди умные, мыслят державно, что-нибудь толковое да присоветуют.
Тучи окончательно развеялись. Над ельником сверкало ослепительно-синее небо. Такое яркое, что глазам больно смотреть. Снег искрился и сверкал на солнце.
Ближе к полудню Никита выбрался на дорогу. Не слишком-то наезженную, но все-таки не по буеракам пробираться. Даже татарский конь повеселел, легонько заржал, взмахнул хвостом, с шелестом сбивая снежную пыль с еловых лап.
Парень угрелся на солнышке и едва не мурлыкал, а потому появление троих бородатых, одетых в рваные шубы мехом наружу мужиков прозевал. Да и уследить за ними было непросто – вышагнули из синей тени между деревьями бесшумно, даже веточки не потревожили, выстроились поперек неширокой дороги и замерли.
Никита натянул поводья, останавливая мышастого.
Мужики просто стояли, выставив разлохмаченные бороды, и выдыхали густые клубы пара. Чего стоят? Охота им мерзнуть?
– Поздорову, добрые люди! – вежливо поприветствовал их Никита, не слезая с седла. Мало ли что у них на уме? Он, конечно, не боялся троих невооруженных селян, но береженого и Бог бережет, как говорится.
– И тебе, значится, не хворать, молодой боярин, – прогудел, словно из бочки, крайний слева мужик. Его рыжая борода горела на солнце красной медью.
– Откуда и куда путь держишь? – окидывая парня липким, как дорожная грязь, взглядом, прищурился средний – наполовину седой, в облезлой бараньей шапке.
– В Москву направляюсь. Дело есть к Ивану Даниловичу, князю вашему.
– Вона как! – протянул рыжий. – Княжья служба – дело прибыльное…
– Я не на службе, – пожал плечами Никита. – Просто поговорить надобно.
Чернявый мужик, стоящий у правой обочины, шмыгнул носом и утер усы рукавом.
– Не на службе, значит… – задумчиво произнес седой.
– Нет! Не на службе.
– А мы, значится, погорельцы, – встрял рыжий. – Татарва проклятая село наше пожгла, нас по миру пустила. Ходим теперича, побираемся. Подай, молодой боярин, сколько не жалко, Бог тебя спасет…
– Вы уж простите меня, люди добрые, да нет у меня ничего, – развел руками парень, уже жалея о тех выброшенных двух кунах, что он нашел в сумке татарина.
– С князьями беседовать ездишь, а милостыни не подашь? – обиженно протянул седой.
Чернявый сморкнулся в два пальца на снег.
– Ну, так уж вышло… Вы зла не держите, я как на духу. Было бы, разве пожалел бы?
– Да кто ж спорит… – отвечал рыжий. – Справный молодец, да при коне, да при мече… Такой бедняка-погорельца никогда не обидит.
– Хоть краюхой хлеба помоги, – прибавил седой.
Никита вздохнул, но вспомнил, что жадность греховна, а делиться с ближним – одна из первейших заповедей Иисуса Христа. Запустил руку в сумку, выуживая остатки каравая – кусок шириной в ладонь.
– Чем богат…
Он успел заметить взмах жердины, тень от которой косо перечеркнула снег, даже пригнулся, но удара не избежал, а лишь смягчил. Шершавая деревяшка скользнула по затылку, рванула острым сучком ухо, бросила парня с коня.
– Вяжи его, Прошка! – заревел, судя по трубному голосу, рыжий.
Жеребец тонко заржал, поднялся на дыбы, выбросил острое копыто в сторону набегающего седого.
– Тю на тебя! – выплюнул мужик, взмахивая полами шубы.
Мышастый шарахнулся и кинулся наутек.
Никита перекатился через плечо, под ноги чернявому, и выхватил из-за пояса течи.
– В ухо его!
– Вали басурмана!
Чернявый отшатнулся, неловко пытаясь выбить оружие ногой.
Тень летящей жерди вновь скользнула по лицу, предупреждая об опасности.
Ученик Горазда, не вставая с корточек, прыгнул было в сторону, и тут на него свалилось что-то легкое, холодное, прозрачное, как утренняя дымка над рекой.
Сеть!
Никита попытался коротким кистевым взмахом теча разрезать ячеи, но рога рукоятки запутались почти сразу.
– Ага! Попалась птичка! – радостно трубил рыжий.
– Будет знать, морда басурманская! – вторил ему седой.
А чернявый молча пнул отчаянно пытающегося вырваться парня в бок. Никита боролся с сетью изо всех сил, но прочный перестав[69] побеждал, несмотря на все его усилия.
– Вяжи! – К привычным уже голосам добавился еще один – тонкий и визгливый.
На плечи Никиты упала веревка.
Но тут сопение и хриплое дыхание разбойников перекрыл пронзительный, воющий, вонзающийся под череп, как каленый гвоздь, свист.
Глава девятая
Желтень 6815 года от Сотворения мира
Московское княжество, Русь
Так мог бы свистеть Соловей-разбойник, по преданиям сидевший на муромской дороге, пока не повстречался с богатырем Ильей.
Мужики, споро обматывающие Никиту сетью, охнули, ахнули, застыли.
Звук усилился настолько, что захотелось зажать уши ладонями, а потом пошел на спад.
И следом жутко заорал рыжебородый.
– Мать твою! – всхлипнул седой, падая на Никиту сверху.
На лицо парня потекла липкая и теплая влага. Кровь.
– Утекай, православные! – выкрикнул визгливый голос. И захрипел, захлебываясь и булькая.
Извернувшись, Никита увидел сквозь ячеи сети, как чернявый с беззвучно распахнутым ртом рухнул на колени, держась двумя руками за живот. Между его пальцев торчала толстая стрела с пестрым оперением.
Миг, другой – и на дороге послышался топот копыт.
Звонкий голос прокричал:
– Уррах! Уррах!