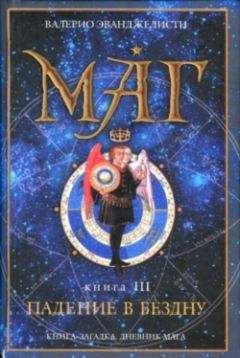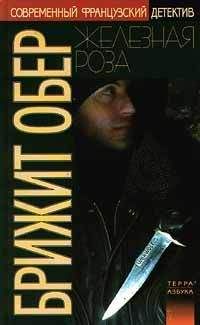Валерио Эванджелисти - Предзнаменование
Ингастоне кивнул, хотя и не понял, с чего бы это испанец стал размениваться на рекомендации и предостережения.
— Не позабуду, синьор. Ваши советы всегда очень ценны.
— Не сомневаюсь. Инквизиция примет во внимание ваше усердие. Велите арестовать эту Перну и поместите ее туда, где сожитель сможет услышать ее стоны. Доктор Камарго оценит вашу утонченность. Не забывайте, что баронат Хумантиновакантен. — Последнюю фразу Молинас бросил как бы невзначай, сделав вид, что не заметил искорки, быстро промелькнувшей в глазах коллеги. — А теперь я хотел бы допросить самого рабби. Вы позволите?
— О, конечно! — Ингастоне позвал тюремщика, отошедшего на почтительное расстояние, чтобы не слышать важной беседы. — Открой камеру и проводи туда господина.
Каземат, в котором содержали заключенного, представлял собой маленькую пещеру с низким сводом и более или менее выровненным полом. Сыро в пещере не было, но явно не хватало тепла. Легкого санбенито недоставало, чтобы согреться, и узник дрожал всем телом, скорчившись на соломе. Каземат освещала единственная свеча, закрепленная в нише.
Молинас взял свечу, поднес ее к лицу узника и увидел лоб с залысинами, два испуганных желтых глаза, крючковатый нос и курчавую черную бороду, спадающую на тощую грудь. Он слегка вздохнул и произнес с притворным сочувствием:
— Знай, что у тебя нет надежды. Только полное раскаяние и выдача других евреев, разделяющих твою веру, спасут тебя от карающей руки властей. Церковь умеет прощать тех, кто, одумавшись и сдав ей сообщников, выкажет свое раскаяние в измене.
— Но я добрый христианин! — сдавленным голосом запротестовал заключенный.
— Да полно, где это слыхано, чтобы доброго христианина называли рабби. Ты еврейский священник.
Узник замотал головой:
— Меня называют рабби, потому что во Франции, где я родился, я преподавал язык и вероучение евреев. Но я преподавал их христианам испытанной веры, тем, кто убедил меня примкнуть к истинной церкви.
Молинас закрыл глаза.
— Ты соображаешь, что говоришь? Тебя еще подозревают только в том, что ты пытался отыскать прозелитов среди христиан. Как же мы можем тебя спасти, если твоя вина столь велика?
— Нет, нет! — Джованни да Париджи в знак невиновности развел худые, как у скелета, руки. — Я никого не пытался обратить! Во Франции в те времена был большой интерес к обычаям евреев. Сам король Франциск Первый желал, чтобы его обучили Каббале, и вот многие ученые…
— Значит, ты каббалист. — Голос Молинаса становился все жестче. — Ты практикуешь магию, некромантию. Инквизитор Эймерих писал: нет еврея, который втайне не служил бы демонам и не пытался бы их вызывать.
— Прошу вас, дайте мне договорить! — Глаза узника наполнились слезами. — Я никакой не каббалист. Пользуясь интересом французов, я путешествовал из города в город, давая уроки еврейского языка. Я преподавал в Париже, Лионе, Авиньоне, Монпелье, Дижоне. Потом началась война, и поскольку я находился в Бургундии, которой угрожал Карл Пятый, я завербовался в армию и в итальянской кампании был рядом со своим королем. После поражения я попал в плен к испанцам, и они депортировали меня на Сицилию, где я попытался как-то наладить свою жизнь. Это все.
Молинас осторожно встал, стараясь, чтобы воск со свечи не капал на него. Свечу он поставил обратно в нишу.
— Может, какой-нибудь невежественный францисканец тебе и поверил бы. Но если ты думаешь обмануть меня, ты глубоко ошибаешься. — Он резко повернулся к соломенной подстилке. — Сначала ты говорил, что преподавал еврейский язык и доктрину. Какую доктрину, если не Каббалу? Ты сам утверждал, что это было интересно французам. А может, ты преподавал им заветы Талмуда, чтобы обратить их?
Теперь Джованни да Париджи заплакал в голос.
— Нет, клянусь вам! Единственное учение, которое я знаю, это гематрия. Ее я и преподавал.
— Гематрия? Это еще что такое? — удивленно спросил Молинас.
— Это искусство толковать слова посредством численного значения букв, из которых они состоят. Евреи пользуются гематрией, чтобы толковать Тору, Закон народа Израиля.
— Численное значение? Не понимаю.
Чтобы что-то сказать, узник вынужден был сплюнуть на пол мокроту, которая заполняла гортань.
— Есть такие слова, которые содержат важнейшие числа. Например, Митра или равнозначное ему Абраза…
Молинас подскочил, словно к нему прикоснулись раскаленным железом.
— Ты сказал — Абраза?
Джованни да Париджи удивленно посмотрел на него.
— Ну да. На самом деле это греческое слово Абраксас.
— Итак, ты знаешь, что означает… — Молинасу никак не удавалось прикинуться спокойным. Голос его охрип от волнения, и он почти забыл, о чем говорил до этого.
— Да, конечно. Это очень просто.
Молинас снова подошел к подстилке. Сердце колотилось, и его трясло, как в лихорадке. Однако ему удалось произнести с надлежащей холодностью:
— Теперь слушай меня внимательно. Ты понятно объяснишь мне, что означает слово «Абраксас» и все его возможные применения. Мне известно, что ты живешь с женщиной по имени Перна. Я много раз видел, как муж и жена вместе всходили на костер, но иногда жену сжигали раньше мужа, чтобы его наказание было более полным. Если ты сейчас скажешь мне правду, Перна будет первой, кого ты спасешь, а потом и себя. Начинай, я слушаю.
Молинас провел в каземате почти час. Выйдя оттуда, он отправился на поиски инквизитора Камарго. Он перехватил его, когда тот возвращался с мессы.
— Ваше преосвященство, — порывисто сказал он, — прошу вас написать в Супрему, что вы более не нуждаетесь в моих услугах. Я непременно должен вернуться к своей первоначальной миссии.
— Это так срочно?
— Да.
— Хорошо. Следуйте за мной в кабинет.
РОЖАТЬ В МУКАХ
Мишель де Нотрдам сошел с повозки на главной площади Агена напротив собора Сен-Капре, придерживая обеими руками черную квадратную шапочку с красным помпоном. Он боялся, что ветер сорвет ее с головы. Вот уже много часов он не снимал эту шапочку — символ успеха, которым могли бы гордиться его предки. Он, отпрыск еврейского рода, обреченного на унижение, стал дипломированным медиком, следовательно, причислен к рангу влиятельных лиц! В ушах у него все еще звучал перезвон колоколов Монпелье, хвалебные речи Антуана Ромье и декана Грифиуса, приветственные крики студентов и бакалавров. Определенно 1533 год предвещал стать счастливейшим в его жизни.
Мишель шел к дому почти бегом, ловя на себе восхищенные взгляды прохожих, отчего он все больше гордился собой. На миг он решил никогда не снимать с головы шапочку, овеянную такой славой. Если в его фамильном гербе «Soli Deo» таилась загадка, если его предки вызывали к себе скептическое отношение (и он знал, насколько обоснованно), то головной убор, который он теперь носил, являлся неоспоримым свидетельством авторитета и компетенции. Если не перед ним самим, то перед его беретом обязаны были почтительно склонять голову.
Он нетерпеливо постучал в дверь двухэтажного домика, где в полной изоляции жила его супруга. Ему пришлось подождать, пока дверь открылась и на пороге появилась Магдалена с ребенком на руках. С минуту Мишель молча глядел на нее. После родов ее кожа сильно побелела, словно от нее отлила кровь, и золотистая россыпь веснушек, которые никак не соответствовали критериям красоты того времени, почти исчезла. Магдалена тяжело перенесла беременность, но ни капли не подурнела, и ее осунувшееся лицо по-прежнему озаряли сияющие синие глаза.
— Ну, что вы об этом скажете? — улыбаясь, спросил Мишель, указывая на шапочку.
— Ой, тебе… вам так идет!
Магдалена протянула губы, но он поцеловал сначала лобик сына, который беспорядочно шевелил ручонками, и только потом запечатлел легкий поцелуй на губах жены, почти сразу отстранившись.
— Вы приготовили что-нибудь поесть? — спросил он. — Я так спешил к вам, что отказался от ужина в Кастельно.
Лоб Магдалены порозовел.
— Сказать по правде, я не ждала вас так быстро, но что-нибудь поесть найдется. Отдыхайте, я займусь ужином.
Впервые за весь день Мишель нахмурился.
— Муж вправе, вернувшись домой, рассчитывать на достойный ужин. Тем более в тот день, когда он защитил диплом.
Магдалена прошептала:
— Но как же я могла знать… Нет, вы правы. Заботы о ребенке поглощают меня целиком. И мне никто не помогает, кроме сестер, у которых свои дети. Поэтому я иногда и забываю о своем долге.
— Не иногда, а часто. Слишком часто, — сурово отчеканил Мишель.
Магдалена опустила глаза, но раздражение уже овладело ее супругом. В такой радостный день она умудрилась-таки испортить ему настроение. Он почти вырвал ребенка из ее рук.
— Ступайте на кухню. Я подержу Рене. Только из любви к нему я не наказываю вас. Но знайте, что в следующий раз снисхождения не будет.