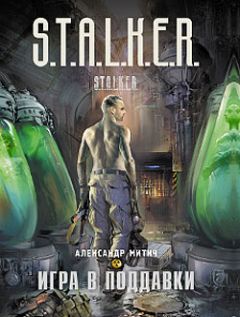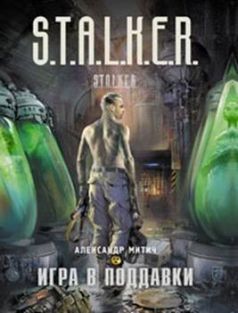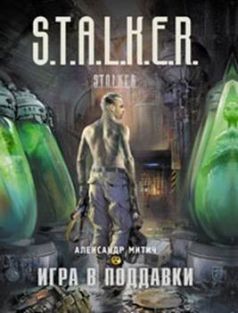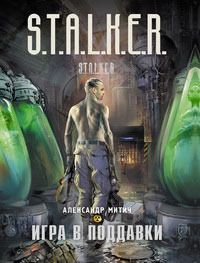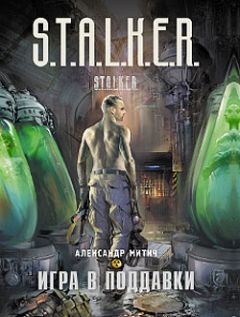Михаил Шевляков - Тринадцать лет или Сибирская пастораль
Ксеничка хотела еще что-то сказать, но тут через форточку со двора донесся спасительный голос Ксеничкиной мамы: «Ксения, ты где? Иди домой немедленно!» – и он сказал:
– Похоже, Клавдия Сергеевна уже ушла. Значит, будем прорываться через линию фронта.
– Это как?
– Это так. Я выхожу с чайником в коридор и под шумок открываю дверь на лестницу. Дверь в комнату я оставлю открытой, так что с эн-пэ Ангелины Львовны дверь на лестницу будет не видна. Твоя задача – быстро выскочить на лестницу и прикрыть, но не захлопнуть дверь. Приказ понятен?
Она хихикнула и козырнула:
– Приказ понятен, разрешите выполнять?
– Ну давай…
…Вернувшись с чайником с кухни в комнату и беззвучно закрыв на ходу щеколду двери черного хода, он подошел к столу и посмотрел в окно. Посреди двора Ксеничка уверяла маму, что ходила смотреть новые афиши в кинотеатре. Банка с тремя слипшимися подушечками так и лежала на кровати…
* * *
…Этот день пришелся на пятницу, у него как раз закончилось суточное дежурство, и они с майором выпили по маленькой за упокой души, а потом еще по маленькой, и еще раз… Имеем право, думал он, поднимаясь по лестнице, имеем право…
…Имеем право – ведь мы возвратились. Мы возвратились, а они остались там – в чертовой карусели над Бугом и Неманом, над Москвой и Волгой… ребята остались там – в горах Урала, на голой земле между Тоболом и Ишимом. Кто взрывом и дымным столбом, кто – дотянувший – в санбате, а кто и вовсе – без вести… Кто где, кто где – повсюду на той страшной войне, раскроившей все пополам…
В полутемном коридоре никого не было. На кухне из черной тарелки «Рекорда» пел марш. Их марш, марш, с которого все начиналось тогда, пять лет назад. Достав папиросы и прикурив от соседкиной керосинки, он постоял у окна, выпуская дым в форточку. Тогда тоже все цвело, тоже была весна, толькотолько отгремел праздник – и они были полны радостного счастья – вот! наконец-то! разобьем – и по домам! Да только вместо этого пришлось учиться крови и смерти друзей… Марш все гремел, тот марш… Это было через год после начала войны, в другом страшном мае – в мае сорок второго… Как кричал, как хрипел по радио этот марш веселый Лешка Шестаков, сгорая в небе над Казанью… Мессера навалились на него, и он горел, горел над Волгой… а мы уходили на восток, разодранные в щепы, в набухших кровью гимнастерках… Вернулись… вернулись три из двенадцати машин, последних двенадцати машин их полка. Три пилота, два штурмана и один стрелок – наверное, родились в рубашках… Садились на брюхо. Все – полка не было, две недели – и полка не было. Но переправы не было тоже…
…Окурок полетел через форточку. Крохотный красный огонек, как одинокая сигнальная ракета… Ракета взлетала, и мы взлетали-по одному, по двое, без прикрытия – бензина было кот наплакал, но мы все равно летели бомбить. Это снова была осень, но под нами были уже давно не леса Подмосковья. Там, внизу, немецкие танки неслись в прорыв от Орска – второй большой прорыв на юге, фронт сыпался, и Маленков, усевшийся в кресла покойников, уже уехал из Уфы в Омск… Сука Маланья… раньше надо было их вешать, раньше, сразу же, еще в Куйбышеве…
…Не спеша, покачиваясь и нет-нет да и придерживаясь за стенку, прошел в комнату, не раздеваясь, лег на кровать. Ничего не хотелось делать, даже сапоги снимать. Снова закурил. Привычной обрезанной консервной жестянки под рукой не оказалось, он нашарил под кроватью позавчерашнюю газету, оторвал кусок листа и, свернув фунтик, стал сбрасывать пепел в него – как-то не хотелось совсем уж свинячить…
Репродуктор заговорил громче – видно, Ангелина Львовна вышла на кухню и добавила звук. Но марш уже закончился, и молодой диктор с бархатным голосом вновь проклинал и призывал почтить память. Голос у него, конечно, был хорош, но ой как далеко было ему до Левитана – Левитана пропавшего без вести посреди Омска ноябрьской ночью сорок третьего года.
Брюзжишь, – невесело сказал он себе, – стареешь…
А пусть даже и брюзжу – но этому радиодиктору никогда не прочесть сводку так, как это было в те двадцать месяцев – проклятые полтора года – почти ровно шестьсот дней. Тех дней, когда «московское направление» было на Воробьевых горах, куда летали мы на штурмовку немецких позиций… Зимних дней надежды, когда казалось, что уже все, что наша взяла – и не зря вновь горела Москва, что побегут и немцы до Березины… И вновь – летних – отчаяния и стыда… На Волге и за Волгой – аж до Урала и Ишима…
Уже совсем смеркалось, но включать свет не хотелось. Пусть все будет, как тогда… Эх, ребята…
* * *
…Задачник по математике казался ей сегодня просто отвратительным. Все цифры и буквы в домашнем задании, что нужно было сделать на завтра, смешались в сплошную абракадабру, настроение совсем пропало, и хорошо хоть мама не видела, что она с самого утра натянула свое любимое крепдешиновое платье. Скучая и ленясь, она выглянула во двор через окошко кухни, у которого устроилась с книжкой и тетрадкой.
Он стоял возле сарайчика, где пылился в ожидании начала месяца и новых талонов на бензин его мотоцикл, и о чем-то разговаривал с дворничихой Стешей. На нем была не привычная старенькая гимнастерка, а новенькая кожанка, из тех, что попали в город с американскими грузовиками и были предметом острой зависти мальчишек в ее школе. Стеша пошла вглубь двора, за флигель, а он еще раз подергал замок на сарайчике, критически осмотрел свои сапоги и поправил фуражку. По всему было видно, что он собирался куда-то идти – и уж точно не в булочную и не за папиросами.
Быстро захлопнув ненавистную математику, она черкнула размашисто наискось на листке «Я к Светке» и выскочила в прихожую. Мельком взглянула в зеркало, набросила на плечи бежевый пыльник и, пританцовывая на одной ноге, натянула непослушную туфлю. Берет она надела совсем уже на бегу, дробно стуча каблучками вниз по лестнице и чуть не поскользнувшись на площадке, да и то еле успела – он уже почти вышел через калитку ворот на улицу.
– Дядь Мить, – сбившийся от быстрого бега, ее голос гулко раскатился под аркой, – Дядь Мить, подождите меня!
– А, здравствуй, Ксеничка! – весело откликнулся он, – Куда это ты так бежишь?
– К подружке хотела забежать, – неловко соврала она и почувствовала, как у нее загорелись шея и уши. Чтобы как-то скрыть свое смущение, она стала заталкивать выбившуюся прядь волос обратно под фетровый берет. – А вы… вы куда-то тоже идете, да?
– Да вот в гости собрался по поводу воскресного дня.
– Да? А куда, если, конечно, не секрет? – она наконец справилась с прядью и отдышалась.
– Не секрет, – он усмехнулся. – Помнишь, я тебе две недели тому о своих знакомых говорил? Серебрянская, которая Кобыляко? Если бы не к подружке спешить – как раз бы и познакомилась с нею.
– Да ну ее… Я с вами лучше пошла бы – но если можно.
– Конечно, можно, они люди такие, что гостям всегда рады. А подружка твоя как же?
– Да ну ее, – повторила она и снова почувствовала, что краснеет…
…До бульвара было идти совсем недалеко, пока они дошли до угла, она пару раз оглянулась на свои окна – не видит ли ее мама? Как раз в этот момент он спросил, не будут ли за нее волноваться дома, и она с облегчением сказала «нет» подумав, как здорово, что она успела черкнуть записку. Сходя с тротуара, она неловко подвернула ногу, и он крепко взял ее под локоть. Было бы здорово, если бы сейчас ее увидел кто-нибудь из одноклассниц – снова покраснев, подумала она. И все-таки жаль, что он не видел ее в прошлое воскресенье, когда они с Наташкой сделали себе шикарные прически валиком. Да, а потом мама ругалась и заставила ее стереть помаду – вспомнив об этом она нахмурилась.
– Что приуныла?
– Да так, пустяки, – она прижалась к нему и усмехнулась. Его черная куртка нагрелась от майского солнца, и от нее остро пахло кожей…
…Магазин на углу Народной и бульвара она знала, а вот то, что хозяева его живут прямо на втором этаже над магазином – нет. Они прошли во двор и поднялись по скрипучей деревянной лестнице. Дверь им открыла хозяйка – Людмила Георгиевна – в фартуке, видно, только от плиты. Прямо у порога он познакомил их, Ксеничке тут же было велено не смущаться и чувствовать себя как дома. Под вешалкой стояли в беспорядке дотянувшие до тепла детские калоши и Ксеничка подумала, что ее, как всегда, отправят к детям, но Людмила Георгиевна попросила называть ее просто Милой, безо всяких отчеств и церемоний, и, воскликнув – ой, подгорает! – всплеснула руками и убежала к готовке.
– Ого, Дмитро, с какими красавицами ты козакуешь! – снизу, из магазина, отдуваясь на ходу и вытирая шею огромным платком, более похожим на маленькое полотенце, поднялся наконец-то хозяин дома – маленький и лысоватый Кобыляко, особенно маленький рядом с высокой и худощавой женой. У него было смешное имя-отчество – он представился как Петро Прокопович и говорил с теплым и таким же округлым, как и он сам, украинским выговором, мгновенно перекрестив ее из Ксенички в Оксану. – Ну-ка к столу, к столу! Что там моя Милочка сегодня на праздник приготовила! – и пошел в комнату первым. Что-то было странное в его походке, но эта мысль только промелькнула и пропала.