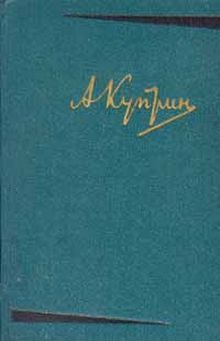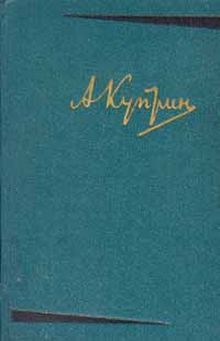Александровскiе кадеты. Смута (СИ) - Перумов Ник
Федя Солонов лежал на операционном столе. Стол подрагивал, покачивался, как и пол, и стены, и потолок — потому что хирургический вагон в составе специального санитарного поезда шёл на юг, прочь от Петербурга. Шёл вместе с императорским, двумя товарными, двумя пассажирскими и ещё одним боевым бронепоездом.
Все, кто вырвались из столицы.
По пути число их росло. Разрозненные отряды гвардии, столичной милиции, добровольцев, просто верных — и солдат, и офицеров, и жандармов, и дворников, «и пахарей, и кустарей, и великих князей», как говорится.
Правда, с великими князьями вышла незадача — многие разбежались кто куда, попрятались, многие так и остались в столице с новой властью, кто забился в щель по пригородным резиденциям, в Царском Селе, в Павловске, кто, по слухам, удрал аж в Териоки.
А остальные, все, кто мог, стягивались к тонкой ниточке Варшавской железной дороги.
Остался позади Дудергоф. Забрали младшие роты александровского корпуса; конечно, лучше всего было б отдать мальчишек родителям — и кого-то даже отдали, особенно из местных — но у большинства-то они отнюдь не в столице и даже не в окрестностях!..
Ничего этого кадет-вице-фельдфебель Солонов не знал и не видел.
Лишившись сознания после удара шальной пулей в тамбуре, он пришёл в себя лишь ненадолго, только чтобы увидеть склонившееся над ним иконописное девичье лицо в косынке сестры милосердия, лицо, показавшееся сквозь туман боли и шока странно-знакомым — а потом вновь впал в забытье.
За миг до того, как на лицо ему легла эфирная маска.
— Прошу вас, коллега, Евгений Сергеевич. Будете мне ассистировать, больше некому. Знаю, что вы не хирург, голубчик, но…
— Обижаете, милостивый государь Иван Христофорович. Я, как-никак, всю японскую прошёл. Как ассистировать при проникающих ранениях брюшной полости, знаю.
— Иван Христофорович… я ведь тоже могу…
— Вы, конечно, можете, ваше императорское высочество, но операция очень сложная. Нельзя терять ни минуты, может начаться сепсис. Необходимо будет начать вливание Penicillin-Lösung, ваше импе…
— Татьяна, милый Иван Христофорович. Просто Татьяна. Я ведь вам во внучки гожусь.
— Ах, госпожа моя Татьяна свет Николаевна!.. Не будем спорить. За дело, Mesdames et Messieurs!..
Ничего этого Федор, конечно, не слышал. И ничего не чувствовал.
Две Мишени не уходил с передней пушечной площадки бронепоезда. Составы ползли медленно, несколько станций по пути к Гатчино оказались полностью покинуты (буфеты, разумеется, разграблены): сбежали все, вплоть до последнего обходчика или смазчика. Приходилось задерживаться и проверять каждую стрелку — многие были переведены так, что заводили в тупики.
Офицеры, не гнушаясь чёрной работы, грузили уголь из покинутых складов. К счастью, работали водокачки и паровозы жадно присасывались котлами к коротким раструбам шлангов.
Вагон-канцелярию в императорском поезде заполнял дым папирос. Яростно трещали все четыре «ундервуда», на походном прессе размножались Манифест, который ещё лишь предстояло предать гласности, воззвания и объявления. Место прислуги и свитских заняли военные — и гвардейские, и армейцы, даже несколько флотских.
Германские добровольцы меж тем втянулись в оставленный на поругание Петербург. Временное Собрание торжествовало победу; Кронштадт, форты и береговые батареи вместе с большинством боевых кораблей предались новой власти.
Однако, что Две Мишени успел услыхать от других, вырвавшихся из города, что случайно оказалось у них и что теперь лежало в его карманах — говорило, что к решающему броску готовится совсем иная сила.
Петросовет.
Уже вовсю шло брожение в полках и эскадронах, в экипажах и в запасных батальонах. У рядовых и у матросов перед глазами оказывались отлично напечатанные, яркие, броские листовки — эсдеки не дремали, развернув бешеную деятельность. У них в достатке нашлось и типографий, и бумаги, и денег, и транспорта — вся округа оказалась засыпана их листовками.
'Товарищи солдаты и матросы! Пробил час нашего освобождения! Долой кровавый царский режим, долой прогнившее самодержавие! Долой и презренную клику министров-капиталистов, которые ничем не лучше!.. Да здравствует социалистическая революция!.. Не будет жадных и глупых буржуев, обирающих простой народ! Не будет толстосумов-купцов, кулаков-мироедов, жирных попов, торгующих опиумом для народа!.. Наши цели просты и ясны каждому:
Землю — крестьянам!
Фабрики и заводы — рабочим!
Всю власть — советам! Страну — трудовому народу!..'
Простые слова, и знакомые. Но били они прямо в цель… как и там, в другом семнадцатом…
«Почему нас зовут большевиками? Потому что мы — за большинство народа и потому, что большинство народа за нас!.. Никто не даст крестьянину земли, никто не даст рабочему завод — кроме нас!.. Мы одни решительно порываем со старым миром, миром зла, крови и несправедливостей, где бедному человеку доставались одни кости!.. мы одни говорим — землю делить, по справедливости, по числу едоков! Мироедов-кулаков — вон из наших сёл! Кулачье — раскулачить! Дома их, скотину, инвентарь — беднейшему трудовому крестьянству!.. Братья-бедняки, поднимайтесь, создавайте комитеты деревенской бедноты — комбеды, берите власть, гоните кровопийц из деревень в шею!..»
Что делать? Пока ещё поезда продолжают движение, рвутся на юг; но, само собой, телеграф им не обогнать. Скоро, совсем скоро захватившие власть в Петербурге отдадут соответствующие приказы; тот же Гучков, к примеру. Ни мужества, ни решительности ему не занимать; какие-то полки могут и выполнить приказ «законного правительства из состава депутатов Государственной Думы». И тогда останется только пробиваться с боем, но, опять же — куда?
Как в той реальности, уходить на Дон, на Кубань, надеясь на казаков, на богатые села Тавриды и Новороссии? На рабочих Юзовки и Донбасса, хорошо зарабатывавших, имевших собственные дома, никак не похожих на «пролетариев», которым «нечего терять, кроме их цепей»?..
Но там это не кончилось ничем хорошим. Казаки «устали от войны» и не хотели уходить далеко с родного Дону; в селах Причерноморья, где, как говорится, «оглоблю воткни — телега вырастет» хватало тех, кому глаза жёг достаток соседа; и офицеры, дававшие присягу Государю, предпочитали сперва отсиживаться по квартирам, а потом покорно отправиться на службу к большевикам — кто из страха, кто за паёк, а кто и из надежды скакнуть в первые из последних.
Но у них не было Императора. Быть может, Его воззвания сумеют пробудить общество? Привлечь всех верных к Его знамени? Ведь тогда и там смута случилась на третий год тяжёлой войны, где врага только-только удалось остановить и лишь кое-где оттолкнуть назад. Вот интересно было б рассказать Алексею Алексеевичу[1] о прорыве, названном его именем…
Может, здесь и сейчас всё окажется по-иному? Не выбито кадровое офицерство; цел гвардейский корпус, хоть и изрядно рассеян; и немцы не занимают полстраны, как по тому «похабному Брестскому миру», одну лишь столицу да железные дороги к ней от Риги и Ревеля.
Так отчего же он, полковник Аристов, в такой меланхолии? Ничего ещё не проиграно; напротив, они одержали победу, вырвались из обречённой столицы, спасли Государя — да иному офицеру этого б на всю жизнь хватило!..
Или оттого ты мрачен, любезный друг Константин Сергеевич, что рядом нет с тобой некоей прекрасной дамы, с которой ты так и не набрался храбрости объясниться?
Оттого, что она — неведомо где? Что ваш последний разговор… был совсем не таким, как тебе хотелось бы?
Нет, сказал себе он. Об этом я сейчас думать не буду. Приказываю себе не думать и запрещаю думать. Нам надо просто выжить, просто прорваться…
Две Мишени зло стукнул кулаком по броне. Да нет же, нет! «Просто выжить» не получится! Как не получилось у героев Ледового похода в той реальности. Почему там победили их нынешние противники? Не только лишь потому, что были чудовищно, непредставимо жестоки. Жестоки, как жестока может быть только машины, холодная и бесчувственная. Это, конечно, сыграло свою роль — Константин Сергеевич думал о тех заложниках из офицерских семей, коими обеспечивались верность и усердие «военспецов», как он успел вычитать в библиотеки профессора Онуфриева. Но — не только, отнюдь не только.