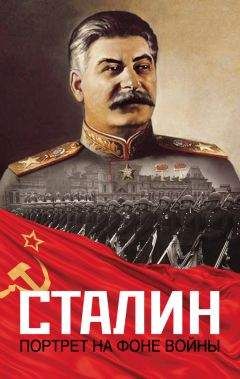К Соловьев - Господа Магильеры
Завал не разобрать, это он понял сразу. Несколько тонн камня. Невыполнимая задача для одного смертельно уставшего старика. Было бы у него рук десять в подчинении…
- Доктор Гринберг! – вновь позвал он, - Вы здесь?
Никто не отозвался. Виттерштейн, чтобы не стоять на месте, позволяя телу цепенеть от страха, стал обходить то, что осталось от лазарета, сторонясь страшных находок – разбитых в щепу коек, обрамленных кровавыми лохмотьями своих недавних обитателей, оторванных конечностей и расплющенных касок.
Он вдруг увидел Гринберга – тот лежал, придавленный сорванным со своего места шкафом для хирургических инструментов. Целый, с облегчением понял Виттерштейн, просто лишился чувств. Это не страшно.
- Доктор Гринберг! – он приблизился, не замечая, что хромает на одну ногу, - Доктор!..
Он наклонился над Гринбергом и протянул к нему руку, легко прикоснувшись к плечу. И тотчас ее отдернул. Гринберг был пуст. Кожа его была теплой, податливой, но под ней уже не было биения жизни. Сердце его было неподвижно, легкие не работали, кровь медленно замерзала в венах. Уже не Гринберг, лишь его пустая оболочка, столь же безжизненная, как и окружающий ее камень.
Лицо врача было спокойно, как у редкого покойника, и Виттерштейн с облегчением понял, что умер штабсарцт быстро. Он осторожно коснулся головы мертвеца, шевельнув ее в сторону, и увидел то, что ожидал – осколок бетонной плиты врезался в череп Гринберга сбоку, вмяв внутрь височную кость, как случайное прикосновение гончара - фрагмент непропеченного, еще мягкого, глиняного сосуда. Воротник хирургического халата был заляпан густой бордовой жижей с клочьями волос.
- Отдыхайте, доктор, - проронил Виттерштейн, позволяя голове Гринберга удобно устроиться в прежнем положении, - Видит Бог, вы заслужили отдых более, чем кто-либо другой.
Неподалеку от Гринберга, под каменным завалом, он разглядел халат сестры милосердия, но прикасаться к нему не стал. Тело лежало в совершенно неестественном положении, немыслимом для обычного человека. Виттерштейн был уверен, что кости несчастной женщины лопнули под многотонным сокрушающим ударом перекрытия. Здесь не было нужды в лебенсмейстере, способном раздуть пламя из затухающей искры – здесь был лишь остывший пепел чужой жизни.
Виттерштейн почувствовал себя слабым и ветхим, как старое, расползшееся, из жухлой соломы, пугало. Все мертвы. Все люди, что были здесь вместе с ним, превратились в отработанный жизненный материал, безвольными грудами сваленный тут и там. Он был единственным дышащим человеком в этом подземном склепе.
Рано сдаваться, отдернул он сам себя, и знакомое чувство раздражения помогло вновь обрести контроль над размякшим было телом. Не могло быть, чтоб уцелел только он. Надо искать. Хотя бы для того, чтоб не впасть в отчаянье.
Виттерштейн сосредоточился и заставил тело быть своим послушным инструментом. Сейчас оно ничем не отличалось от какого-нибудь скальпеля или кюретки. Просто отлитая в нужную форму материя. Если разум сконцентрирован и готов к работе, инструмент в руке не дрожит.
Он стал искать жизнь. В каменном лабиринте из острых углов, тускло освещенным неживым электрическим светом, Виттерштейн попытался ощутить эхо, которое рождает биением сердца любой организм. Кто-то наверняка остался жив, лишь завален обломками. Может, кому-то сейчас нужна помощь лебенсмейстера. Вправить вылезшую кость, перекрыть кровопотерю, убрать боль. Тщетно. Его нервы, ставшие чувствительнейшими антеннами, ощущали вокруг лишь холод камня и сырую, тревожно пахнущую, землю.
«Вот отчего мне так тоскливо, - подумал Виттерштейн, хромающей походкой двигаясь вдоль бывшего лазарета, - Не оттого, что я, скорее всего, умру. А оттого, что я стал не нужен. Впервые за несколько лет».
А потом он ощутил головокружение оттого, что обнаружил тончайшую, ритмично бьющуюся, ниточку жизни. Настоящей, человеческой, жизни. Она была где-то рядом, слабая, угасающая, но все-таки чистая и ясная, как рдеющая нить накаливания в кромешной тьме.
- Держитесь! – крикнул Виттерштейн, забыв про нещадно болящую ногу, - Эй, вы! Лежите на месте! Не двигайтесь, слышите? Я иду! Уже иду!
Он устремился вперед, отшвыривая в стороны тот хлам, который уступал его ослабевшим рукам. Несколько раз ему пришлось переползти через груды камня, дважды он второпях падал, но тут же вскакивал.
- Не пытайтесь говорить! – крикнул Виттерштейн торопливо, и сам себя укорил за эту глупость – человек со столь слабым пульсом едва ли способен говорить. Хорошо, если просто в сознании. Что ж, даже если он столь слаб, что не может открыть глаза, это не страшно. Лебенсмейстер уже близко. Лебенсмейстер, хозяин жизни, ее проводник и посредник.
Он едва не размозжил себе голову о фрагмент бетонного потолка, собравшийся в гармошку от титанического удара взрывной волны. Выругался, еще раз упал – ерунда, пустое – и наконец подошел, задыхаясь, к угасающему источнику жизни. Где-то здесь, между бесформенных нагромождений камня, железа и дерева, была жизнь. Которую он, Виттерштейн, призван спасти.
Уцелевшая лампа находилась в другом углу, оттого Виттерштейну пришлось потратить долгих несколько секунд, чтоб найти источник этой зыбкой, едва колышущейся, жизни.
- Вы тут? Эй! Шевельнитесь, если можете. Все в порядке, не бойтесь, я лебенсмейстер. Я спасаю жизни.
- И, кажется, ты в этом специалист… Я видел, с какой скоростью ты спасал свою.
Виттерштейн сделал вдох и ощутил, как легкие изнутри покрываются коростой хрустящего инея. Он впервые слышал этот голос, хрипящий, как заезженная граммофонная пластинка, слабый, как сентябрьский ветер в лесу, но полный холодного яда. Но Виттерштейн отчего-то знал, кому он принадлежит, и знание это было неумолимо, как ползущая по тканям саркома.
Тоттмейстер лежал на полу, возле опрокинутого операционного стола. Китель с него был срезан, и тело в обрамлении камня казалось восковым, твердым. Но он был в сознании. Полуприкрытые глаза без выражения смотрели на Виттерштейна.
Виттерштейну был знаком взгляд раненых. Всякая боль оставляет в человеческом взгляде свой отпечаток, характерный, как отпечаток лапы зверя на снегу. Взгляд раненых в живот – потухший и отдает желтизной. Взгляд лишившихся конечностей лихорадочен, скачет, как насекомые в стеклянной банке. Отравившиеся газом смотрят на мир подобно рыбам, глаза их становятся прозрачными, а роговица словно истончается с каждой минутой.
Здесь же не было ничего подобного. Лежащий перед Виттерштейном человек в остатках серого сукна, находился, без сомнения, при последнем издыхании, но на лебенсмейстера смотрел спокойно и даже с некоторой долей ледяной насмешливости. Виттерштейну отчего-то вспомнил ворон, этих каркающих траншейных ангелов, спускавшихся с небес за свежими мертвецами. Должно быть, было у них с тоттмейстером что-то общее.
«Слуги одной госпожи, - подумал Виттерштейн, лишь бы заставить мозг работать, не окоченевать под тоттмейстерским взглядом, - Конечно. Вот оно, родство».
- Вы ранены? – спросил он сухо, испытывая бесконечное омерзение от этого вороньего взгляда, обладающего способностью враз вспарывать внутренности, обнажая требуху и затаенные мысли.
- Ранен ли я?.. О Госпожа… Я бы рассмеялся, если бы не был уверен, что от смеха у меня лопнут внутренности, - Ранен ли я!..
Голос тоттмейстера скрипнул от боли, взгляд на миг потерял ясность. Виттерштейн, к своему стыду, ощутил удовлетворение. Боль тоттмейстера на мгновенье заглушила его собственную.
- Я… Сожалею. Боюсь, ваша рана слишком серьезна для меня. Я ничего не могу с ней сделать.
- Как это символично, - пробормотал тоттмейстер, - Как… предсказуемо. Жизнь бесконечно лжива в своей сути, и слуги ее отличаются тем же качеством.
- Сожалею, - повторил Виттерштейн, не зная, что еще сказать.
«Это человек, - сказал ему чей-то голос, едва слышимый, будто пришедший по проводу барахлящей подземной связи, - Ему больно. Он умирает. И он умрет, если ты не протянешь ему руки».
Не человек. Лишь чудовище, принявшее его форму. Хуже тифозной крысы или трупных мух. Спасти его – преступление перед лицом тех, кто остался жив. Люди проклянут его, лебенсмейстера Виттерштейна, если узнают, что он даровал жизнь тоттмейстеру. Спас чудовище, пожирающее души и пирующее за столом самой смерти, накрытым меж искореженных артиллерийским огнем траншей.
- Смерть честнее, - умирающий тоттмейстер осклабился. А может, это была гримаса боли, - Моя хозяйка честнее твоей, лебенсмейстер… Х-хха… Она никогда не обманывает. Если он шепчет тебе в ухо, значит, возьмет свое. И ничего более.
- Значит, вы скоро увидите ее, - сказал Виттерштейн, надеясь вызвать в тоттмейстере злость.
Пусть разозлится. Пусть начнет кричать, теряя с каждой секундой кровь и силы из своих крошечных запасов. Пусть проклинает, рычит, скалит зубы, угрожает. Так будет проще. По крайней мере, одному полумертвому лебенсмейстеру будет проще отказать. Пусть разозлится!