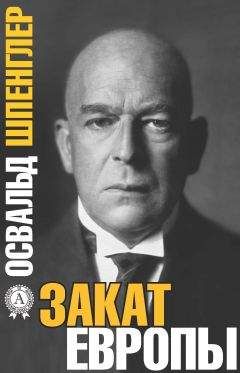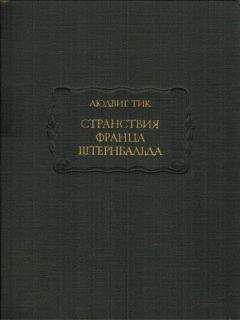Флориан Иллиес - 1913. Лето целого века
30 марта он наконец-то попадает на прием к невропатологу Отто Пёцлю. Он ждет два часа. Первым делом он дарит доктору свою дебютную книгу «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса». Он подписывает книжку: «Господину доктору Пёцлю на память». В дни обострения недуга его утешает память о временах Данте. В дневник он пишет: «То, что для 1913-го – психоз, в каком-нибудь 1300 году было, наверное, чистой воды эгоцентризмом». Но что скажет доктор? Сегодня бы сказали «бёрн-аут»[12], а тогда говорили: «У пациента наблюдаются явления тяжелого невроза сердца: приступы сердцебиения с учащенным пульсом, пальпитации при засыпании, расстройства пищеварения, связанные с соответствующими психическими явлениями – депрессивными состояниями и повышенной физической и психической утомляемостью». В 1913-м это резюмировали понятием «неврастения». Насмешники пели: «Трудоголик иль бездельник – будешь точно неврастеник». Но в ведомственном мире кайзеровско-королевской монархии это служило ключевым словом для немедленного освобождения от работы. По требованию библиотеки некий доктор Бланка выписал «Заключение врачебной экспертизы»: «Г-нд. фил. н. инж. Роберт Музиль к.-к. – библиотекарь, Вена 3-й р. Ниж. Вайсбергерштрассе, 61 проявляет существенные признаки неврастении, в силу которых он нетрудоспособен».
Одновременно с предоставлением отпуска Франц Бляй написал в Лейпциг в издательство Курта Вольфа и поведал о большом «потрясающем» романе, над которым работает Музиль. Раз у того в запасе «безбиблиотечное лето», то можно рассчитывать на скорое завершение книги.
Кто я есть, а если я есть, то сколько меня? Отто Дикс рисует в 1913 году «Маленький автопортрет», «Автопортрет», полотно «Головы (автопортреты)», потом «Автопортрет с гладиолусами» и, конечно, «Автопортрет с сигаретой». Макс Бекман, крупный автопортретист, отмечает в 1913 году в дневнике: «Как это грустно и неприятно – вечно возиться с одним собой. Иногда рад бы избавиться от себя».
Как всегда и бывает с новой любовницей, жизнь и искусство совершенно переменились у Пикассо. История вышла особенно красивой: высокая одалиска, знойная красавица Фернанда Оливье, основным родом деятельности которой была непристойность, изменила Пикассо с молодым итальянским художником Убальдо Оппи и посвятила в это свою подругу Марселлу Амбер, неприступную любовницу художника Маркусси и одну из самых непопулярных женщин Монмартра. Марселла с большой охотой завербовалась отвлекать Пикассо во время тайных рандеву Фернанды, потому что сама была давно по уши в него влюблена. И перед тем как избрать ее новой дамой сердца, он дал ей новое имя: Ева. В первую очередь он не хотел, чтобы его подруга носила то же имя, что и женщина его друга и набирающего обороты конкурента – Брака. Таким образом, Ева стала символизировать для Пикассо уход от первой стадии кубизма – в сторону кубизма синтетического. Кажется, будто в Еве он увидел шанс обуржуазиться в тридцать лет, уйти в тень от богемы, мешавшей ему работать. Первым делом они вместе перебрались с Монмартра на Монпарнас, куда была направлена и новая двенадцатая линия парижского метро. В то время как Монмартр был местом сомнительных варьете, средой обитания художников без средств, опиумных курильщиков и проституток, Монпарнас стал средой успешных фигур творческой отрасли Парижа. Словами великого импресарио Аполлинера: «На Монпарнасе, напротив, обнаруживаешь истинных художников, одетых на американский манер. Некоторые из них не прочь уткнуться носом в кокаин, но это не страшно».
В 1912-м, в возрасте тридцати одного года, Пикассо вселился с Евой в квартиру и мастерскую в построенном не больше десяти лет назад жилом комплексе – на бульваре Распай, 242. В январе 1913-го, Пикассо даже представил свою новую подругу отцу в Барселоне. Дон Хосе, некогда властный глава семейства, видимо, не имел ничего против Евы и синтетического кубизма – это было связано, скорее, с тем, что он практически ослеп. Когда Пикассо и Ева только познакомились, они сбежали в Сере в Пиренеях. Теперь, 10 марта 1913-го, они сделали это снова. Пикассо хотел укрыться от большого города с его арт-тусовкой, чтобы наконец-то ничто не мешало работать. Они глубоко вздохнули, доехав до укромного местечка в горах и наслаждаясь по-весеннему разгоревшимся солнцем за чашкой кофе в уличном кафе. Они тут же арендуют дом Делькро и настраиваются остаться там до осени. Уже два дня спустя Пикассо посылает две бодрые открытки своим главным покровителям: агенту Канвейлеру, с которым он в декабре 1912 года заключил выигрышный эксклюзивный контракт, благодаря которому впервые по-настоящему заработал (и может купить Еве много прелестных кофточек). И Гертруде Стайн, салонной даме и крупному коллекционеру, которая за кулисами позаботилась о том, чтобы в феврале на Арсенальной выставке показали несколько работ Пикассо. На открытке Гертруде Стайн, которая как раз хочет выбросить своего брата Лео из их общей квартиры и живет теперь со своей подругой Алисой Токлас, изображены трое каталонских крестьян – напротив того, что с бородой, Пикассо подписывает своей рукой: «Портрет Матисса».
Но вскоре хорошее настроение покидает Пикассо, потому что состояние его отца ухудшается. Он спешит в Барселону, чтобы потом снова замуровать себя в мастерской в Сере. Он радуется, когда из Парижа приезжает его неряшливый друг Макс Жакоб. Тот пишет в Париж: «Я хочу изменить свою жизнь, я еду в Сере провести несколько месяцев у Пикассо». Но поскольку художник в основном сидит в мастерской, исступленно работая над новыми возможностями papiers colles, коллажей синтетического кубизма, то Макс Жакоб проводит время по большей части с Евой. Так как дождь льет, не переставая, они сидят дома, цедят какао и ждут, когда мастер завершит рабочий день. Вечером они вместе пьют вино, а ночью сырой воздух наполняется голосами лягушек, жаб и соловьев.
Но все мысли Пикассо занимает больной отец, научивший его рисовать, сверхотец, которого он любит и ненавидит. Когда Пикассо было шестнадцать, он сказал: «В искусстве надо убить своего отца». Вот и свершилось. Дон Хосе умирает, и Пикассо парализует боль. Но беда одна не ходит: этой весной тяжело заболевает Ева, у нее рак. А когда болезнь отнимает у него еще и самую большую его отраду, жизнь Пикассо катится под откос: Фрика, его любимая собака, судьбе которой он много лет уделял столько внимания, сколько своим женщинам (иногда даже немного больше), находится при смерти. С самых первых дней в Париже Фрика, эта курьезная помесь немецкой овчарки и бретонского спаниеля, всегда была рядом с Пикассо, пережила уже и множество женщин, и голубой, и розовый, и кубистский периоды. 14 мая Ева пишет Гертруде Стайн: «Фрику уже не спасти». Ветеринар бессилен помочь, и Пикассо просит в Сере местного егеря прекратить страдания Фрики. До конца жизни Пикассо не забудет имени стрелявшего – Эл Рокето – и как сильно он в эти дни плакал.
Отец мертв, собака мертва, любимая женщина умирает, за окном, не переставая, льет дождь. Весной 1913 года в Сере Пикассо переживает свой самый большой душевный кризис.
22 марта доктор медицины Готфрид Бенн получает спасительную весть: «Доктор Бенн, ординатор при 64-м пехотном полку генералфельдмаршала принца Фридриха Карла Прусского, по личному ходатайству об отставке переводится в офицеры медицинской службы в резерв 1-го разряда». В течение года он меняет патологоанатомический институт больницы Вестенд на городскую больницу Шарлоттенбурга.
29 марта в Мюнхене Карл Краус читает доклад в зале отеля «Четыре сезона». Среди гостей – Генрих Манн. Дружные аплодисменты.
4 марта дают ужин в немецком посольстве в Лондоне. На нем присутствует, разумеется, и граф Гарри Кесслер, тот самый немецкий сноб в белом костюме-тройке, в адресной книге которого числится с десяток тысяч имен. Друг Анри ван де Вельде, Эдварда Мунка и Майоля, основавший в Веймаре издательство «Кранах Прессе» и вынужденный оставить кресло директора музея из-за выставлявшейся там чересчур смелой акварели Родена. Тот самый граф Кесслер, который мотается между Берлином, Парижем, Веймаром, Брюсселем, Лондоном и Мюнхеном в роли мощного катализатора современного искусства и югендстиля. Благодаря ему мы поближе узнаем английскую королеву. Сегодня на приеме он представил немецкому послу, князю Карлу Максу фон Линовски (жена которого, любительница искусств и собирательница Пикассо, питала к нему симпатию), Бернарда Шоу. Теперь за ужином та берет реванш: Кесслера представляют английской королеве. «В серебряной парче и с короной из алмазов и больших бирюзовых камней она смотрелась относительно хорошо». В остальном – весьма утомительно: «Я не мог ее оставить, а она не могла найти выход из беседы. Каждые полминуты разговор с ней сходит на нет, и несчастную женщину приходится заводить, как остановившиеся часы, что всякий раз спасает лишь на очередные тридцать секунд». Опасаться войны, признается он своему дневнику, однако не стоит, как он слышал: «Положение в Европе за последние полтора года совершенно изменилось. Русские и французы вынуждены поддерживать мир, так как больше не могут рассчитывать на поддержку со стороны Англии». Ну что ж.