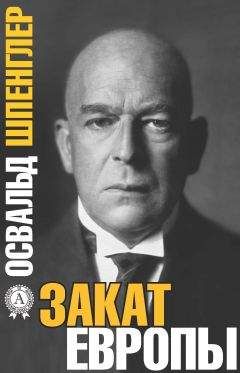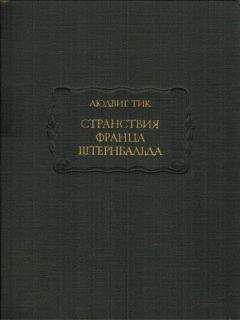Флориан Иллиес - 1913. Лето целого века
Георг Тракль весной 1913 года – драма специфического свойства. Словно в трансе бродит он по миру. Он рожден лишь наполовину – признается он одному другу. Он пропивает все деньги, принимает веронал, прочие таблетки и наркотики, снова напивается, буянит, кричит, как ребенок, любит свою сестру, ненавидит за это себя и весь мир в придачу. Он пробует стать аптекарем. Не выходит. Пробует жить нормально. Тоже, естественно, безуспешно. А между тем: он сочиняет самые прекрасные, самые ужасные стихи. И письма, наподобие этого: «Настал бы скорей тот день, когда душа моя не захочет, да и не сможет более жить в этом убогом, прокаженном тоскою теле, когда она покинет это нелепое чучело из гнили и грязи, которое столь не в меру правдоподобно отображает, как в зеркале, наш безбожный, проклятый век». Это письмо Людвигу фон Фикеру, его меценату, второму отцу и даже другу, если это слово в случае Тракля вообще уместно. А также издателю, потому что «Дер Бреннер», его журнал, будет первым, где выйдут в свет его безысходные литании. В этом году он будет бесцельно мотаться меж трех городов: Зальцбургом (для него это «сгнивший город»), Инсбруком («город жесточайший и подлейший») и, наконец, Веной («город-помойка»). Австрия, бермудский треугольник отвращения. Сидеть в поезде он не может, потому что тогда прямо напротив него, vis-a-vis, окажется другой человек, а это невыносимо. Вот почему он всегда стоит в проходе: пугливый взгляд, затравленный. Случись кому-то на него посмотреть, он до того покрывается потом, что приходится менять рубашку.
Но в марте он нежданно-негаданно получает из Лейпцига почту, от издательства Курта Вольфа. В новой серии «Судный день» хотели бы напечатать томик его стихов. Так, может, все будет хорошо?
У Райнера Марии Рильке насморк.
9 марта страдающая тяжелой депрессией тридцатидвухлетняя Вирджиния Вулф посылает в издательство рукопись своего первого романа «По морю прочь». Она просидела над ним шесть лет. По случайному совпадению, того же 9 марта 1913 года ее будущая возлюбленная Вита Сэквилл-Уэст достигает совершеннолетия, а именно двадцати одного года. Но сейчас Вирджинию Вулф пока еще цепко держит другая, и очень старая паутина. Потому что издатель, которому она шлет рукопись, – ее сводный брат Джералд Дакворт. Он, как известно сегодня из тайных дневников, на пару с братом Джорджем приставал к ней в детстве или даже изнасиловал.
«По морю прочь», роман о незамужней и бездетной Рэчел Винрэс, уже содержит основные элементы будущих главных произведений Вирджинии Вулф. Так, там уже всплывает и некая «миссис Дэллоуэй», которая станет позже героиней отдельного романа, и у Рэчел есть «своя комната», как будет потом называться важное эссе Вулф. Герой романа «По морю прочь» подводит в 1913 году ужасающий итог: «Только подумайте: сейчас начало двадцатого века, но до самого недавнего времени ни одна женщина не могла заявить о себе во всеуслышание. Вся их жизнь текла на задворках – тысячи лет, – странная, безмолвная, нерассказанная жизнь. Конечно, мы всегда писали о женщинах – оскорбляли их, насмехались над ними или поклонялись им, но это никогда не исходило от них самих».[11]
Но «безмолвная, нерассказанная жизнь» продолжается. До 1929 года было продано только 479 экземпляров книги. «По морю прочь»: для Вирджинии Вулф эта поездка оказалась весьма тягостной.
Франц Марк хочет вместе с друзьями-художниками проиллюстрировать Библию. В марте 1913-го он пишет Василию Кандинскому, Паулю Клее, Эриху Хеккелю и Оскару Кокошке. Себе он – и неудивительно – выбрал сотворение мира и каждый день творит новых животных, синих лошадей, которым не нужны синие всадники.
Страшные вещи творятся в Праге. Хотите верьте, хотите нет, но 16 марта Кафка пишет Фелиции: «Спрашиваю без обиняков, Фелиция: на Пасху, то есть в воскресенье или в понедельник, нашелся бы у тебя свободный час для меня, а если бы нашелся – сочтешь ли ты за благо, если я приеду? Повторяю, это может быть любой час, у меня не будет других дел в Берлине, кроме как дожидаться этого часа». Фелиция сразу отвечает: да. А так как в 1913 году почта идет быстрее, чем в 2013-м, Кафка пишет уже 17 марта, как и ожидалось: «Я не знаю, смогу ли приехать». Потом 18 марта: «Сама по себе помеха моей поездке все еще существует и, боюсь, будет существовать и далее, однако в качестве помехи она свое значение потеряла, так что, если это вообще еще подлежит обсуждению, я мог бы приехать». Затем 19 марта: «Если поездке моей все же что-то помешает, я самое позднее в субботу тебе телеграфирую». 21 марта – цементирование неопределенности: «Фелиция! И это при том, что нет еще никакой уверенности, что я еду; лишь завтра утром все решится, собрание мукомолов все еще надо мной висит». Видимо, если верить этому дивному предлогу, на Пасху Кафке приходится ехать от своего агентства на собрание Объединенного товарищества чешских мукомолов. А потом новые заботы – и, как и у Музиля, признаки неврастении: «Только я должен как следует выспаться, прежде чем перед тобой предстать. Как же опять мало я на этой неделе спал, моя неврастения и мои седины – все это во многом от недосыпания. Только бы мне перед встречей с тобой как следует выспаться!» И потом 22 марта, в день, когда он должен ехать (и даже на самом деле поедет), он пишет Фелиции большими буквами на конверте: «Ничего еще не решилось. Франц». Всего несколько слов – а уже автобиография.
Верится с трудом, но следующее письмо от Франца Кафки Фелиции Бауэр написано действительно на бланке берлинского отеля «Асканийский двор», откуда он в пасхальное воскресенье панически пишет: «Что происходит, Фелиция? Ты ведь должна была получить в субботу мое срочное письмо, в котором я извещаю тебя о своем приезде. Не может же быть, что именно это письмо вдруг затерялось? И вот я в Берлине, мне после обеда в четыре или в пять уезжать, часы бегут, а о тебе ничего не слышно. Пожалуйста, пошли мне ответ с этим же мальчиком. Можешь и телефонировать мне, если сумеешь сделать это незаметно, я сижу в „Асканийском дворе“
и жду. Франц». В пасхальную ночь он прибыл на Анхальтский вокзал, видимо, ожидая увидеть ее встречающей на перроне, чтобы вместе отпраздновать их Воскресение. Но она не пришла. В беспокойстве он оббежал все платформы. Сел потом в зале ожидания, боясь ее пропустить. Прождав бесконечные минуты, все же встал и поехал в отель. Не мог уснуть. Едва занялся день, Кафка вскочил, выбрился. Но от Фелиции все еще нет вестей.
Пасхальное воскресенье в Берлине. Франц Кафка сидит в номере отеля, за окном пасмурно. Кафка мнет руки, пристально смотрит на дверь – не идет ли посыльный, пристально смотрит в окно – не идет ли ангел.
Спустя какое-то время она-таки дала о себе знать. У нее крепкие нервы. Они едут в Груневальд. Сидят рядышком на стволе дерева. Это все, что известно. Какой-то особенный пробел в этой двойной жизни: после того как месяцами в двух-четырех письмах ежедневно отражался каждый вздох, вдруг – ничего.
26 марта Кафка пишет ей из Праги: «Знаешь ли ты, что сейчас, по возвращении, ты для меня еще более непостижимое чудо, чем когда-либо прежде?» Это все, что нам известно о том воскресенье в Берлине. Пасхальное чудо как-никак.
Такая у Франца Кафки жизнь в марте 1913 года. Но есть же еще и «творчество». И вот Курт Вольф, стоящий этой весной в центре всей немецкоязычной литературы, пишет из Лейпцига: «Господин Франц Верфель так много говорил мне о Вашей новой новелле (как она называется? „Клоп?“), что мне хотелось бы с ней ознакомиться. Не пришлете ее мне?» Самый знаменитый немецкоязычный рассказ двадцатого века называется «Клоп»? Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что превратился в клопа? Конечно, нет. Поэтому Кафка отвечает Вольфу: «Не верьте Верфелю! Он ни слова не знает из этой истории. Конечно же, я с большим удовольствием пришлю Вам ее перед тем, как переписывать начисто». И потом: «У меня, правда, есть другая история, „Превращение“, которая еще не переписана». Так и появилось на свет «Превращение».
Роберт Музиль проживает с женой в Вене в третьем районе, Нижняя Вайсгерберштрассе, 61. Он человек с очень многими свойствами. Он ухожен, подтянут, во всех венских кофейнях его начищенные туфли сверкают ярче других, по часу в день он тягает гантели и делает приседания. Он до ужаса тщеславен. Но от него исходит невозмутимость самодисциплины. В личной маленькой книжке он отмечает каждую выкуренную сигарету; переспав с женой, он записывает в дневник букву «С» – «coitus». Порядок превыше всего.
Но в марте 1913 года порядку приходит конец. Совсем невыносимой сделалась ему унылая работа библиотекарем второго класса в Венском техническом университете. Он ощущает свою никчемность и слабость, но вместе с тем и призвание к чему-то более высокому, к роману столетия. Но он не совсем уверен, что сие означает: то ли он медленно, но верно сходит с ума, то ли пора увольняться.