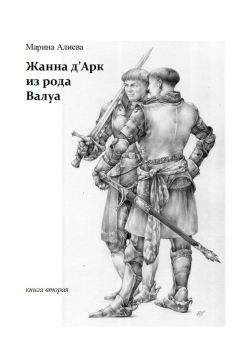Марина Алиева - Жанна дАрк из рода Валуа. Книга третья
– Да… возможно. – Мигель задумался. – Когда-то я сам говорил, что мы ищем для себя волю более сильную, которая облегчает нам наш выбор. А ОНА тогда сказала, что никакая чужая воля не укажет путь к вере и счастью. И, знаете, вспоминая этот разговор с ней, я всё больше убеждался в том, что под верой ОНА имела в виду веру только в себя. Ни в Бога, ни в короля, ни в кого-то иного, сильного, а только в собственные силы и разумения!
Карл слабо улыбнулся.
– Вы поэтому не захотели читать манускрипты из моей кладовой?
– Да! Я пытался найти себя без какой-либо помощи. Только через собственное сознание.
– И как?..
Мигель с силой потёр виски, как будто хотел растормошить мозг, но лицо его при этом было страдальческим.
– Я, когда понял ЕЁ слова, решил, что нет ничего проще. В какой-то момент даже уехать собирался, чтобы доказать себе – смогу! А потом… Помните, я вам рассказывал, как ОНА учила меня разговаривать с деревьями? Вот я и решил зачем-то попробовать. И не вышло!.. А потом не вышло и рассуждать, опираясь только на собственные разумения. Всё время лезло в голову то, что заучил ранее, страхи какие-то, перед кем – не знаю, но стойкие, укоренившиеся, что, если я пойду против, кто-то обязательно придёт и накажет. Я их отгоню на время, но они подбираются с другой стороны и лезут, лезут в голову, укладываются там на места давно пригретые и, словно дразнят: «Видишь, тебе уже не так беспокойно, не так хлопотно и страшно! Тебе ПРИВЫЧНО думать так, как подсказываем мы. Вот и живи так!..» И я то поддавался, то восставал, пока не понял, что попросту слаб. Мне не совладать с той жизнью, что вокруг. Надо, или родиться с верой в себя, которая есть у НЕЁ, или обладать большей силой духа, чтобы суметь выделить из себя целую часть собственного естества. Я так и не сумел. Только на то и хватило, чтобы не возвращаться к её светлости. Но и она не очень-то звала.
Снова повисло молчание. Только в камине мягко гудел огонь, да изредка что-то потрескивало, добавляя умиротворения этому снежному дню, пусть даже и не видимому через прикрытые ставни.
– Как вы думаете, – прошелестел вдруг голос Карла, – ОНА очень страдает сейчас?
Мигель опустил голову. Он прекрасно понял, что герцог, когда спрашивал, имел в виду вовсе не мадам Иоланду. Но почему-то, с тех самых дней, когда стало известно, что девушки обе в плену, здесь о Клод предпочитали говорить «она». Как будто пытались суеверно спрятать её за безличностью, то ли от Судьбы, то ли от чего-то другого, чего сами не понимали, но чувствовали, что надо именно так! Без имени.
– Уверен, они обе не потеряли себя, и не потеряют, что бы ни случилось. – Глаза монаха заметно слезились. – И ОНА, и Жанна страдания презирают.
Карл тяжело вздохнул.
– И всё-таки, всё-таки… Как страшно, наверное, этой девочке среди ненавидящих. Раньше я хотел, чтобы все о ней поскорее узнали, а теперь молюсь только о том, чтобы никакому Кошону, или Бэдфорду не пришло в голову с ней поговорить…
– Думаете её убьют?
– Ей не простят…
В камине загудело, и от горящего бревна отвалился вдруг кусок коры, взметнув вверх целый сноп ярких искр. Мужчины вздрогнули от неожиданности. Мигель поднялся, взял кочергу и поворошил угли.
– Страшно будет всем нам, если она погибнет, – сказал, глядя на огонь. – Для неё же просто начнётся другая жизнь, потому что только в такой исход она и верит.
– Аминь, – прошептал Карл. – Я бы тоже хотел так… Но тут мы с вами похожи, Мигель – и моё сознание боится выйти за рамки знакомого… Но ничего, скоро ему придётся это сделать. И, если Господь будет милостив… если даст мне хоть какой-то шанс на новую жизнь, я бы попросил только об одной милости – стать действительно смелым…
– Аминь, – в свою очередь прошептал Мигель.
Герцог умер через день, 21 января.
После пышных похорон, Мигель собрался и поспешил было выполнить последнюю волю умершего. Но опоздал.
Он подошёл к дому Ализон Мэй всего через несколько минут после того, как толпа местных крестьян и мастеровых закончила терзать её избитый, изуродованный труп перед воротами полностью разграбленного дома. Того самого, который подарил своей возлюбленной Карл Лотарингский.
Постояв немного перед тем, что ещё утром было женщиной, Мигель повернулся и ушёл, неся в себе горький привкус мыслей о том, что в Нанси так и не простили её избранности.
Руан
Ах, как не нравился Кошону этот процесс! Всё шло вроде бы так, но выходило как-то не очень! Причём, началось с самых первых дней, когда этот дурак Ла Фонтен допрашивал свидетелей…
Тогда, в самом начале января, в Руан привезли жителей Домреми и Вокулёра, которым надлежало рассказать всё, что было им известно о детстве Жанны, о её поведении, пристрастиях и наклонностях. Перед началом допросов Кошон, который однажды уже собирал сведения о Жанне, намекнул Ла Фонтену, что следует особое внимание уделить пресловутому Дереву Фей, которое являлось объектом, если и не поклонения, но мистического одушевления несомненно. А это, в свою очередь, легко можно трансформировать в желание следовать обрядам еретиков-язычников!
Однако, дурак Ла Фонтен заявил, что тогда нужно судить за ересь почти всех жителей деревни, потому, дескать, что все они считали Дерево Фей неким священным символом, и Жанна не единственная девушка, которая плела там венки и водила хороводы. И, как ни выпучивал Кошон глаза, с какой бы многозначительностью ни вздыхал, этот чёртов лиценциат канонического права так ничего и не понял! Или сделал вид, что не понял, потому что вообще вёл себя очень странно. Когда доставили так называемую мать Жанны, которая слёзно просила пожалеть «её девочку», Ла Фонтен ей при всех ободряюще улыбался, гладил по рукам, которыми она цеплялась за его сутану, и говорил, что «суд во всём разберётся»!
Впрочем, показания деревенщин были на процессе не самыми важными. Всё равно все они в один голос заявляли, что Жанна была девочкой хорошей, в церковь ходила исправно и богохульных речей, упаси Господи, не вела. Была ли странной? Да, пожалуй была, однако проявлялась эта странность только в особенной задумчивости, которая деревенским девушкам обычно не свойственна. Проводи дознание сам Кошон, или хотя бы Эстиве, они бы сумели выжать и из этих показаний что-то пригодное для суда, но Ла Фонтен всё записал, как говорилось, безо всякого полезного пристрастия, чем заставил сомневаться в собственной полезности для этого суда.
13 февраля показания свидетелей огласили перед должностными лицами, которых в тот же день привели к присяге, и начался непосредственно суд, первое заседание которого намечено было через неделю.
Надо заметить, что собрание этих должностных лиц оказалось достаточно внушительным даже и без участия упрямого Леметра, что смогло, наконец, порадовать Кошона. Пятнадцать докторов священной теологии, одиннадцать лиценциатов канонического права и четверо – гражданского! Семь бакалавров теологии, четыре доктора канонического права и даже один доктор обоих прав, и канонического и священного теологического. Всё это должно было произвести на девицу нужное впечатление. Каких бы кровей она ни была, перед подобным собранием не могла не оробеть. Кошон отлично помнил, как во время инквизиционного суда терялись люди более крепкие, в том смысле, что их воспитание и образование были куда весомей тех жалких понятий, которые могла преподать Жанне крестьянка Роме. А если даже и было вмешательство со стороны того странного испанского монаха герцогини Анжуйской, оно вряд ли могло противостоять целому собранию особ куда более высокого духовного звания, а значит и разумения! Не говоря уже о том, что любыми полученными знаниями надо ещё уметь воспользоваться, чему не сильно-то и обучишь.
Так что, заранее готовя себя к успеху, Кошон сразу позаботился о том, чтобы первые допросы подсудимой были публичными. Но вот тут-то и начались проблемы.
Вместе с Эстиве епископ подготовил пару ловушек, при помощи которых намеревался поставить девицу на место на первом же заседании. Но она перехватила инициативу. Едва оказавшись в зале, окинула взглядом всех сидящих перед ней духовных особ и, нисколько не робея, потребовала, чтобы судили её не одни только богословы, «приверженные английскому королю».
– Церковь не раз заявляла о своём нейтралитете во всём, что касается разногласий между государствами, поэтому суду инквизиционному будет уместно пригласить к разбирательству представителей и другой стороны, – произнесла она, нигде не запнувшись и ни разу даже лба не наморщив, что можно было бы потом трактовать, как чьё-то наущение – девица, дескать, была кем-то подготовлена и пыталась заученное вспомнить.
Хуже того, как только требование было произнесено, по залу тут же пробежала волна удивлённых перешёптываний, среди которых Кошон, к своему неудовольствию, разобрал восхищённые восклицания. Еле подавив в себе злость, он призвал собрание к тишине и, игнорируя слова подсудимой, потребовал привести её к присяге, чтобы запустить в действие первую ловушку. Если девица сейчас присягнёт говорить суду только правду, не утаивая ничего, она будет вынуждена давать подробные разъяснения о природе голосов, повелевших ей идти воевать. И, разумеется, дословно пересказывать всё, что этими голосами говорилось, а в подобной беседе поймать её на еретическом слове труда не составит.