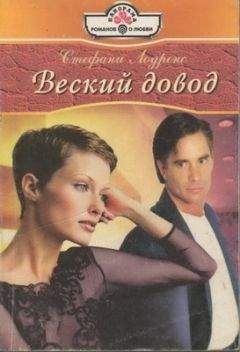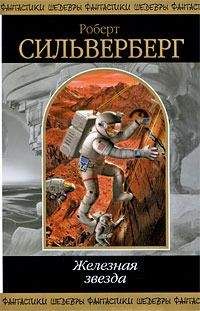Сергей Лапшин - Последний довод побежденных
— Непривычно, — поднял глаза на Вайзена Ланге, отведав вина. Покатал языком, небом ощутил вкус. Сладковатый, терпкий, насыщенный.
— Да уж, ничего общего с рейнским, — согласился майор, в свою очередь с удовольствием сделав пробный глоток. — Я бы сравнил с испанским, но тут чистая сладость, нет характерной горечи, — заметил он.
— Удивительно, — подхватил тут же Олаф. — Удивительно, герр майор, эта страна — и вдруг совсем неплохое вино!
Ему нравилось разговаривать с командиром. Тот, безусловно, был умен и, более того, житейски мудр. Будучи по образованию и роду занятий учителем словесности, майор добровольно пошел защищать интересы Рейха на Востоке. С Вайзеном всегда было о чем поговорить.
— А что, Олаф, на ваш взгляд, не так с этой страной? — ласково улыбнулся майор, судя по всему и сам довольный назревающей дискуссией.
— Коммунисты, они как плесень здесь, они отравляют жизнь, умы миллионов и миллионов, заставляя бессмысленно погибать, сопротивляться культуре, которую несем им мы, немцы. Не понимаю, насколько же нужно быть фанатиком, чтобы не понять одного — мы не завоеватели! Мы единственно несли мир, несли свободу этому народу, а он поднял на нас оружие. Вместо того чтобы встать вместе с нами, уничтожить эту еврейскую верхушку! Что это, майор, трагическая ошибка или тот русский характер, который описал Достоевский или Тургенев?
Вайзен с любопытством посмотрел на своего подчиненного. Круглолицый, с мягким выражением глаз, с легкой улыбкой, майор всегда производил приятное впечатление, располагал к себе. Его можно было лишь слушать, слушать и восторгаться его знаниями, переплетением слов и великолепным умением рассказывать.
— Тургенев, Достоевский, разумеется, значимые фигуры, мой мальчик. Но мы с вами, как и все вокруг, как наши генералы, должны понимать одно — Россия изменилась, изменился ее народ. Все то, что было важным для героев эпохи указанных вами авторов, ныне лишь прах и пепел. Ныне, сейчас, герои иные. Что важно, мой мальчик, эти герои вот они, на глазах. Это смело, безумно смело и сильно — взять и одним поступком перечеркнуть все, что было, и начать сызнова, с чистого листа, взять и построить нечто новое. Ярким примером нынешнего поколения я бы назвал не скороспелых крестьянских писателей, хотя и среди них есть самородки. Горький, мой мальчик, вот то, что подойдет нам больше всего. Буревестник как ожидание революции, перемен, которые перевернут все, и к чертям разрушенный мир! Пусть будет апокалипсис, а на руинах его пусть пируют выжившие. Все, что происходит в литературе России, да и в жизни ее, характеризуется лишь естественным отбором — выживает сильнейший. Да, именно так, мой мальчик. Отрицание личности, всех свобод, которыми по праву гордимся мы, вот сущность выживания, которую теперь нам демонстрирует коммунизм. И в данном случае выживет не просто сильнейший, а выживет стая. Да-да, мой мальчик, это следующий шаг эволюции — стая, которая без колебаний готова пожертвовать любым своим членом. Нет ценностей, нет того, с чем нельзя было бы расстаться во имя этой общности.
Ланге потребовалось несколько минут, чтобы обдумать то, что было сейчас произнесено. Он, конечно, предпочитал бы услышать подтверждение своих слов, но получил нечто, на что совсем не рассчитывал. Чуть ли не теорию, глобальную, огромную, революционную по своей сути.
— Простите, герр майор, вы утверждаете, что русские находятся на более высокой степени эволюции нежели мы, германцы? — решился-таки облечь свои мысли в форму вопроса Ланге. Мягко говоря, то, о чем беседовали он и его командир, не нашло бы одобрения у властей.
— На более высокой стадии эволюции общества, мой мальчик, но не личности. И это гибельный путь. Общество есть совокупность индивидуумов, личностей. Убери из личности стальной характер и волю, общность столь никчемных человеков не будет ничего стоить. Надгрупповое, общий разум примитивен. И руководствуясь им, коммунисты обедняют сами себя в количестве возможных принимаемых решений!
Как свойственно молодости, лейтенант воспринял суждение на свой лад. Даже успел сделать некие выводы:
— Если так, герр майор, то получается, русские обречены?
— Вы знаете принцип муравейника, мой мальчик? Никому не интересно, сколько муравьев-рабочих будет потеряно во имя высшей цели. Никто не будет их считать. Есть цель и средства ее достижения. Очень точная аналогия. Так вот, если мы, люди, можем выбрать сотню путей достижения этой цели, то русские в силу своей ограниченности… замечу, ограниченности не столь природной, сколь вызванной коммунизмом, имеют не сотню, а два-три пути. И они очень затратные, трудоемкие, архаичные. Но! Никого не интересует затратность этих путей, если они ведут к цели. Вот вам и разница между нами.
— Понимаю, — покивал с готовностью Олаф. — Это интересная мысль, герр майор, не могу не согласиться с вами, хотя никогда в подобном разрезе даже не думал. Но сейчас я соглашаюсь, вы удивительно точно и тонко подметили саму сущность коммунизма. Скажите, герр майор, почему в таком случае последний год войны стал объективно неудачным?
— Все по той же причине, Олаф. Сталин умеет объединять, заставляет подчиняться общей цели, и потому, несмотря на потери, русские сумели нанести Вермахту ряд чувствительных ударов. Однако сейчас, — вы должны это понимать, должны видеть это, — русские выдохлись. Причем выдохлись смертельно. Если наше отступление вызвано стратегическими мотивами, то у противника просто недостает резервов, которыми возможно было бы компенсировать свое неумение воевать. Уверяю вас, мой мальчик, Днепр и Молочная станет непреодолимой чертой, о которую разобьются остатки азиатских[12] орд. Немецкий гений одержит триумф в этой битве слепой жертвенности и истинного мужества.
— Надеюсь, это случится как можно быстрее. — Олаф не избежал искушения бросить взгляд на портрет своей любимой. Вайзен усмехнулся, сочтя нужным это заметить. Взгляд его, благосклонно обращенный на фото пленительной красотки, наткнулся на книгу в темном переплете, заложенную синей лентой. Майор с интересом повернулся, читая название.
— «Вертер»,[13] мой мальчик? — с удивлением посмотрел он на лейтенанта. — Я думал здесь, в России, вы будете изучать нечто более… жизнеутверждающее.
— Несчастная история несчастной любви, герр майор, — неопределенно отозвался Ланге, как видно, не очень разделяя мнение своего командира о знаковом для любого молодого человека произведении.
— Подобные искания свойственны молодым людям и определенному возрасту. У Вертера не достало сил преломить неудачно складывающийся порядок вещей, и он плыл по течению. Дурацкая манера, мой мальчик. Надеюсь, вы, оценивая великолепный язык и подачу чувств, ни в коей мере не сопереживаете главному герою?
Ланге в ответ пожал плечами и ответил честно, стараясь в том числе и в самом себе разобраться:
— Герр майор, не сопереживать я не могу. Вертер слаб, но чувствителен. Возможно, подобная чувствительность и тонкая душевная организация помогают ему понять любовь в большей мере, чем это было бы свойственно мне.
— Даже не думайте об этом. — Вайзен решительно рубанул рукой, будто отметая все сомнения. — В слабости нет силы, мой мальчик, и не будет. Воин великого Рейха не может быть слаб и излишне чувствителен. Вам следует подавить это в себе, изжить, как предрассудок. Оставить в своей прошлой жизни. В той, в которую вы никогда не вернетесь!
Несколько ошеломленный напором, Ланге даже поднял руки в демонстративном жесте сдачи:
— Хорошо, хорошо, герр майор, сделаю так, как вы говорите! — И тут же добавил, желая соскользнуть со столь щекотливой темы: — Еще вина?
Вайзен, улыбкой извиняясь за внезапную эмоциональную вспышку, кивнул:
— Конечно, мой мальчик.
День двадцатый
— Просыпайся давай, просыпайся, — и слов бы этих хватило. Не то что толчка, которым Любимкин наградил Волкова.
Сержант разомкнул глаза, спросонья вопросительно и непонимающе уставившись на рядового.
— Комбат зовет, говорит, срочно, очень надо, — пояснил Любимкин в ответ на молчаливый вопрос.
Волков, поднявшись с шинели, присел, разводя руки в стороны. Хрустнул затекшим позвоночником, помянув нелестным словом не только комбата, но и все происходящее. Чертовски хотелось спать, и рассчитывать на это он имел право — ночью следовало уходить в поиск. Наступление армии пришло к своему логическому завершению, передовые отряды уткнулись в оборону, пробить которую они оказались уже не в состоянии. Армия испытывала нужду во всем — в технике, людях, и главное, в том самом порыве, который вел и вел вперед. Выдохлись и встали, буквально попадав с ног от усталости. Очередной хутор впереди, с размеченными траншеями и огневыми точками в подвалах домов стал непреодолимым препятствием.