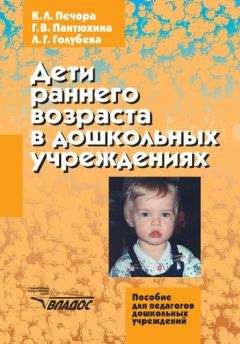Михаил Александров - Кожаные перчатки
Дух деловитости и подтянутость царили на тренировках. На стене, во всю ширь, висел совершенно правильный по идее призыв: «За массовость и мастерство!»
И все же мне здесь было не по себе. По-моему, даже дышалось трудней, чем в нашем тесном зальце в Трехгорном.
Постепенно формировалось это ощущение. Пожалуй, первое, что меня поразило, — резкое разделение занимающихся в секции на две изолированных друг от друга группы. Какое-то жестокое разделение, будто высшая и низшая расы. У старика мы все были вместе. Тот, кто знал и умел побольше, помогал, конечно, тому, кто не знал и не умел еще ничего. Я сам прошел через это. Помню, Сашка мучился со мной не одну неделю, пока не выучил легко и непринужденно обращаться с коварной скакалкой. Помню, как маленький Арчил, которого я наверняка смог бы удержать на ладони, часами натаскивал меня, верзилу, в науке укрощения груши, веселясь, понятно, когда она, проклятая, отскакивая не так, как положено, стукала меня пребольно в лоб… У старика никому бы в голову не пришло сказать незадачливому парнишке: «Уходи, ничего из тебя не выйдет…» Мы вместе, наконец, мыли пол в зальце и драили окна. Попробовал бы кто-нибудь отлынивать! Схлопотал бы вмиг от старика «поганого аристократа» да еще приказ: пять тренировочных дней мыть одному пол! В секции Половикова были аристократы и была масса. Я почувствовал это в день прихода. Изголодавшись по боксу, я заявился раньше всех, хотел поскорее раздеться, поразмяться. Но уборщица в раздевалку не пустила.
— Придет Виталий Сергеевич, распорядится…
— Не все ли равно, где разденусь?
— Не все равно…
Оказалось в самом деле так. Пришел Половиков, сказал что-то уборщице, и та, став приветливой и милой, показала мне место в раздевалке, у окна, с отдельным шкафчиком, подальше от двери в душевую:
— Сюда, молодой человек, тут будет вам удобненько…
Десятка полтора ребят, все, как на подбор, с аккуратными проборчиками, хотя иным проборчики были вовсе не к лицу, расположились справа и слева от меня. Мне показалось странным, что в раздевалке тихо. Мои соседи почти не разговаривали друг с другом и уж вовсе не обращали внимания на тех, кто теснился у другой стены, без шкафчиков, с пятнами сырости от пара, идущего из душевой. По простоте душевной я было сделал попытку завязать знакомство с ближайшим соседом, плечистым и стройным парнем. Тот посмотрел на меня отсутствующим взглядом, приподнял брови: «Простите, спешу…» Но сразу же после того, как Половиков, зайдя в раздевалку, обратился ко мне, ласково потрепал по плечу, сосед переменился, стал любезен, куда девалась надменность!
— Так вы и есть Коноплев? Очень рад…
С высшей группой Виталий Сергеевич занимался сам. Тренировку с прочими вели ассистенты. В общем, это было разумно. Одному со всеми не справиться, да и незачем.
Но зачем понадобилось старшему тренеру грубо оборвать двух разгоряченных, раскрасневшихся пареньков, когда они посмели о чем-то его спросить?
— Не суйтесь, куда не следует! Идите на место!..
— За что вы их так? — удивился я, прервав обработку мешка.
— Э! Шлак эти все…
Шлак… Добродушный, с открытой душой человек, каким он мне показался, оборачивался характером сложным, еще не ясным, но настораживающим.
Смутное ощущение, что здесь все чего-то боятся, беспокоило меня. Боязливость эту я с удивлением наблюдал не только у новичков, но и боксеров постарше, известных в Москве, которых уважали на ринге.
Однажды многое объяснилось. Перед началом тренировки, когда обе группы построились в разных концах зала, Виталий Сергеевич вошел в сопровождении помощников и громко, как-то беспощадно громко стал читать по бумажке. Он называл фамилии, и пять или шесть боксеров вышли из строя.
— Отчислены из секции!
Половиков даже не потрудился взглянуть на тех, кого выгонял. А я тот день не мог заниматься. Я к черту размотал бинты. В раздевалке подсел к Володе Корнееву, которого немного знал раньше, видел на ринге. Это был боксер не из удачливых, но отважный и стойкий. Во мне все кипело от только что виденного, от острой жалости к этим парням, торопливо собирающим пожитки.
— Так просто и уйдешь? — спросил я Володю.
— А что делать? Он прав: я уже бесперспективный…
— Я бы в морду дал за такое! Он что тут у вас предприниматель или советский тренер?..
Володя невесело усмехнулся:
— Да я что? Свое отвоевал, хватит… Вот ребята, тех жалко… А я что? Мне, правда, кончать пора.
У меня был крупный разговор с Половиковым. Чего мне терять? В горячке я выпалил все, что думал. Заявил, что он не воспитатель, а чужак, и что дурным я буду комсомольцем, если не выведу его, как говорится, на чистую воду.
— Кто дал право гнать в шею хороших ребят? — кипятился я. — У вас тут что — частная лавочка? Они с открытой душой, а их — за дверь! Шлак, путаются под ногами, мешают медали зарабатывать, карьеру делать… Так, что ли? Тогда хоть сдерните к черту вон тот советский лозунг со стены! За массовость, мол! Стыдно тут смотреть на него! Очковтиратели несчастные!..
Я не выбирал выражений. Ничего он не мог мне сделать: все равно уйду.
Но он был много опытней и умнее меня. Он терпеливо слушал и даже временами, соглашаясь, кивал головой. Он сидел, устало свесив плечи, и кивал головой, и я вдруг почувствовал, что мой запал потихоньку угасает: невозможно долго обличать человека, если он с тобой соглашается.
— Вот так, — сказал я, ощущая невесть откуда взявшуюся пустоту в душе. — Безобразие — и весь сказ. Сами то вы хоть понимаете?..
Я ждал чего угодно, только не того, что последовало. Самым вероятным было: «Ну и катись отсюда!» Однако Виталий Сергеевич, посидев немного в той же позе, то ли усталой, то ли удрученной, вдруг порывисто встал и схватил меня за руку.
— Спасибо, Коля! — сказал он проникновенно и, честное слово, мне почудилось, будто в его глазах блеснула слеза. — Спасибо, друг, ты настоящий парень…
Он не выпускал моей руки. Мне стало неловко: ишь как растрогался человек, благодарит. Может, не такой уж он и чужак?
— Спасибо тебе, — повторил он, вздохнув. — Ты многого не знаешь… Ладно… Но как ты верно многое угадал!
Теперь мы ходили с ним по пустому залу, и солнце бросало наши длинные тени на боксерские снаряды, поблескивающие свеженькой кожей.
— Чего я не знаю, — сказал я, — все я знаю…
— Нет, Колюша, не говори так… Ты малый чистый, честный, чего уж там!
Виталий Сергеевич на мгновение замялся, потом, будто решив, что уж раз я такой, значит, можно со мной быть до конца откровенным, заговорил доверительно.
— Вот ты говоришь, очковтиратели, стыдно и все такое. Но разве я сам по себе? Мне что твердят? Победы дай, успехи! Юрий Ильич, между нами говоря, это же счетовод хороший: «Можешь, говорит, гарантировать столько-то медалей, призов, дипломов?» Попробуй, скажи ему нет!
— Ну и что будет?
— Ого!
Он даже руками замахал. И стал грустен. Заговорил так же проникновенно и доверительно, что ему, мол, много ли надо, вот дела жаль, сердце он в него вложил, душу…
— Вот и приходится подчиняться…
— И ребят выгонять?
Виталий Сергеевич помрачнел. И взял меня под руку. И так мы с ним ходили по пустому боксерскому залу, как два друга, которым наконец-то удалось поговорить на свободе, по душам. Он мне сделал признание, совершенно откровенно, раз уж мы теперь выяснили все и остались — в чем он уверен — друзьями, что кое-кого действительно приходится даже отчислять. Сердце кровью обливается, но что делать?
— Согласись сам, Колюша, могу ли разорваться? А приходят разные… Те, из-за которых ты расстроился, — между нами говоря, — смотрели в рюмочку не раз. Точно тебе говорю!
Я был ему нужен. И он спокойно врал мне в глаза. И так великолепно, опытный лицемер, разыгрывал комедию, что я, простак, ему почти во всем поверил.
3Я был нужен Половикову. Это понятно. Человек надеялся перетянуть меня к себе, потому что ему не доставало приличного тяжеловеса.
Но зачем, отчего я вдруг стал необходимым, нужным тем, другим людям, которых не только не знал, но даже о существовании их подозревал смутно?
Они приехали к нам во двор под вечер на двух машинах. Веселые, беспечные, уверенные в том, что то, что они делают и как они это делают, не может кому-то не понравиться, они устроили переполох в нашем захламленном дворе.
Мы с матерью только пришли с работы, ели яичницу, готовились пить чай. После чая я намеревался отдохнуть, побаливала ушибленная рука, идти никуда не хотелось. Думал, придут Борька с Алешкой, не могут не прийти. Алешка обещал принести приемник, послушаем радио, сегодня передают «Садко», поет Никандр Сергеевич Ханаев. Голосище у него удивительный!
И внезапно я услышал нестройный, прерываемый заливистым смехом крик, совершенно чужеродный, звучащий дико в нашем, обычно тихом под вечер, магазинном дворе.