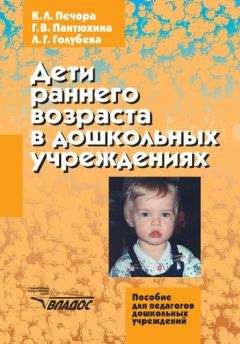Михаил Александров - Кожаные перчатки
Был я таким же — те же руки, ноги, голова. Что же тогда изменилось? Почему я, заводской парень Колька Коноплев, выросший в этом дворе, не знающий вовсе, что такое Нефертити, горланящий на демонстрациях боевые комсомольские песни, грущу сейчас на подоконнике о том, что скоро наступит солнечный день, что там над черной трубой уже светлеет небо?
Как еще далеко до вечера…
«Что вы делаете завтра вечером? — спросила Таня, когда мы подъехали к большому сонному дому со светящимся номерком «8», в Мансуровском переулке. — Здесь я живу, совсем одна, всегда одна… Четвертый этаж, квартира двенадцать… Заходите завтра, Коля, поскучаем вместе!»
4Часа два я проспал, и вчерашнего колдовства как не бывало. Перед работой успел сбегать к Москве-реке. Было холодновато, с туманцем, вода и вовсе показалась ледяной. Но я отлично поплавал, потом докрасна, до жара растерся полотенцем.
— Никаких Мансуровских! Верно, Наташка?
Стало радостно, когда подумал: скоро, теперь уж вовсе скоро вернется Наташка из своих несчастных Вяземок. Пойду встречать, цветов накуплю, они сейчас на рынке дешевые. И пускай все смотрят, что нам стыдиться? Наталья, конечно, застесняется, запрячет цветы куда-нибудь с глаз подальше, еще поругает, пожалуй: «Мещанство! Кто тебя надоумил?..» Но сама будет рада, я знаю.
Вечером поеду в Измайлово. Наверняка там все в порядке: вернулся Аркадий Степанович, ребята оборудовали ринг. Надо нам как можно чаще тренироваться, пока не начались дожди, хоть бы каждый день. Простите, товарищ Половиков, придется вам поискать другого тяжеловеса, а что до нас, так мы благодарим за заботы, но возвращаемся к нашему старику, и пускай он бранится, сколько хочет, пускай своей палкой пройдется по дурной голове моей, отведет душу. «С кем, Аркадий Степанович, не бывает греха?» — покаюсь я. Ребята поддержат, вымолим авось общими силами прощение окаянному.
Но я не поехал в Измайлово. Ни раскаянию, ни прощению не суждено было быть.
Вскоре после обеда меня вызвали к Порфирию Платоновичу. Явился к нему, как был в спецовке, замызганной гипсом, с рваными карманами. Директор разохался:
— Спецовочка, братец, у тебя ну и ну…
Сказал, что ему только что звонили из спортивного общества, вызывает меня руководство. Срочно.
Долго меня продержали в спортивном обществе перед черной клеенчатой дверью. Я сильно нервничал. За дверью слышались спорящие голоса. О чем они спорят, кто там? Мне показалось, будто я слышу голос Аркадия Степановича. Стало почему-то еще тревожней.
Секретарша стучала на машинке, отрывисто отвечала на частые телефонные звонки: «У Митрохина совещание!»
Разглядев жестяные кубки, запыленные и полинялые, уставленные в ряд на канцелярском шкафу, я заговорил с секретаршей, без большой надежды на то, что она обратит на меня внимание.
Неожиданно она весьма охотно сообщила, что ее зовут Люся, что так ее нужно называть и что она знает меня, как же, я тот самый Николай Коноплев, о котором говорит вся Москва.
— Ну уж и воя Москва…
— Будто сами не знаете!
Люся отставила машинку и, глядя на меня круглыми глазами, затараторила, что обожает бокс и боксеров: вот уж боксеры — настоящие спортсмены, не то, что какие-нибудь тощие шахматисты. И тут же, без перехода, поинтересовалась, за что меня так ненавидит этот старый чудак, который всем тут жутко надоел своими наставлениями и дерзостями:
— Ставит из себя! Думает, он один партийный, а остальные так, примазались… Самого Митрохина вывел из себя: вы, говорит, плохой руководитель… Жуткая зануда!
— Кто? — рассеянно спросил я, услышав снова голос Аркадия Степановича и стараясь разобрать, о чем он спорит так сердито.
— Как — кто? Этот ваш Аркадий Степанович, кто же еще? Слышали бы вы, как он вас только что поливал!
— Меня?..
— А то кого же! Дверь закрыта была неплотно… Николай Коноплев человек, говорит, неразвитый, недоучка, психика неустойчивая… И победы, говорит, его пока сплошь случайность, в общем, липа…
Все это Люся выпалила одним духом, быстрым сочувственным шепотом. Она что-то еще бормотала у самого уха, заглядывая в глаза, и мне, растерянному, почудилось, будто муха жужжит, настырно и неотвязно.
— Быть не может, — сказал я, отодвигаясь. — Вы что-то путаете…
— Ничего я не путаю, — опять придвинулась Люся. — Только вы, смотрите, никому!.. Митрохин, на что выдержанный, и тот по столу кулаком стукнул: как, говорит, вам не совестно, Аркадий Степанович, о своем-то воспитаннике!..
Так… Значит, вот вы какого обо мне мнения, уважаемый Аркадий Степанович, отец родной. Значит, пока я терзаюсь, раздумываю, как бы приластиться половчее, вроде нашкодившей собачонки, пока переживаю: обидел, мол, старика, вы преспокойно смешиваете с грязью вашего воспитанника, так что даже другие делают вам замечание?
Не могу выразить, каким это было для меня ударом. Самое страшное — правдоподобие того, о чем жужжала подслушавшая Люся. Почему-то я почувствовал к ней злость, отвратительную, слепую.
— Врешь ты все! — оттолкнул я секретаршу. — Сплетница ты и дуреха!..
Это было безобразным поступком. Мне тут же стало ее жаль.
— Идиот, — сказала она, садясь за машинку. — Еще обзывает, ничтожество. И, между прочим, ничего я не путаю. Зачем мне это надо?
Я хотел сразу уйти. Немедленно. Что мне тут делать? Потом решил остаться. Люся неприязненно поглядывала на то, как я заметался, вскочил, сел, снова вскочил. Погодите, дорогой Аркадий Степанович, я сейчас тоже выскажу, какой вы консерватор, маловер! Что там говорил Юрий Ильич насчет хвостизма? Правильно говорил!..
В горячке, в обиде мне, конечно, в голову не пришла самая простая мысль, что старик прав и что, жалея меня, думая обо мне, он, прямой и честный человек, со всей непримиримостью, быть может, и перехлестывая в чем-то, страстно дерется за меня, там, за дверью с черной клеенкой. Дерется с опасностью, которую понимает разумом и чует сердцем.
Мы редко объективны к себе. Обидеться легче. Точно так поступил и я. В пять минут было отброшено все хорошее, что связывалось с нашим стариком. В пять коротких и невероятно долгих минут он превратился в моем воспаленном сознании в средоточие дурного и вздорного, несправедливого и пристрастного.
О примирении, о возвращении к нему теперь не могло быть речи.
«Значит, недоразвитый, примитив… — распалялся я, сидя перед дверью, за которой все еще о чем-то спорили, — Ладно! Кое-кто об этом другого мнения… Значит, боксер липовый? Тоже хорошо… Запомним, поглядим…»
Если б в эти минуты мне случилось оказаться на ринге, хоть бы против самого чемпиона мира Джо Луиса, я глазом бы не моргнул, бросился яростно драться, только б доказать, только б досадить старику!
— Вращай, вращай глазищами, бешеный! — вдруг засмеялась Люся. — На тебя сейчас чайник поставить — закипит!..
И в этот момент распахнулась дверь. Кто-то громко позвал:
— Товарищ Коноплев, заходите!
И вот я в кабинете председателя общества. Первым делом вижу прямо перед собой большой председательский стол и другой, длинный, покрытый зеленым сукном стол, за которым сидят люди.
Вошел я с поднятой головой, слишком, наверное, порывисто и шумно. Митрохин, плотный, подтянутый человек, с мужественным и приветливым лицом, несколько удивленно на меня посмотрел:
— Садитесь, товарищ Коноплев. Вон там свободный стул…
Свободный стул был рядом с Аркадием Степановичем. Я, конечно, сразу узнал широченную, сутуловатую спину старика. Черт знает что: едва я эту широченную спину увидел, что-то мальчишеское, виноватое и жалкое шевельнулось во мне.
Но было так мгновение. Я дернул головой:
— Ничего. Я лучше постою…
— Зачем же, — оказал Митрохин, — садитесь, вон место…
Если б мне угрожала лютая казнь, я все равно не сел бы на тот стул, рядом со стариком. Ни за что! Глупо это было. По-моему, они поняли, в чем дело. Я видел, как Половиков перегнулся через стол и с улыбкой сказал что-то Митрохину.
— Хорошо, — кивнул тот, — постойте, ноги молодые. Мы недолго…
Он спросил меня: знаю ли, зачем вызвали. Я сказал, что не знаю.
Митрохин обратился к Аркадию Степановичу:
— Разве вы не успели передать товарищу Коноплеву решение центрального совета общества?
Старик грузно повернулся к председателю, заговорил сухо, подчеркнуто официально:
— Я уже имел честь докладывать, что не считаю это решение разумным.
За столом задвигались, переглянулись. Юрий Ильич, сидевший напротив старика, поднял острые плечи, покачал головой:
— Какое же вы имели право? Решение большинства…
Наверное, это было последней каплей. Старик тяжело встал, уронил палку, поднял ее, резко отодвинул стул.
— Считаю себя свободным, — сказал он, ни на кого не глядя, — складываю ответственность за поведение товарища Коноплева. Всякую ответственность!..