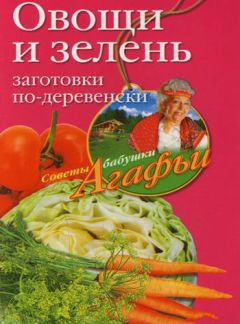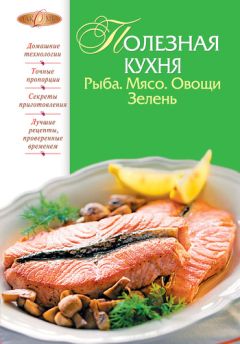Лана Ланитова - Глаша
– Ой, Таня, сил моих нет больше! – Глафира не выдержав, легла на спину, сильные, стройные ноги раздвинулись сами собой.
– Я поняла тебя, Глашенька… Сама хотюча стала. Ты мне давно, страсть, как приятна. Только, лишь на грудки твои посмотрю, рука сама тянется. Создал же бог такую красоту! – Татьяна, не говоря лишних слов, повинуясь горячей плотской тяге, откинув одеяло и распахнув ворот тонкой сорочки, припала губами к Глашиной груди. Проворный язык в спешке, словно опасаясь, что отберут изысканное лакомство, стал ласкать тугие, спелые как вишни, соски подруги. – Боже, как ты хороша и вкусно пахнешь! А мягонькая какая!
Глаша, одурманенная желанием, мало давала отчет своим действиям. Благочестивость, нравственность, логика остались далеко позади: всесокрушающий зов молодого тела, веление страсти руководили ею. Даже в голову не пришло, что ласкают ее не мужские руки, а женские. В этот момент сие обстоятельство ничуть не волновало обеих.
– Танюша, дай свою ладошку, потрогай меня там, поласкай, прошу, – задыхаясь, говорила Глаша. Она торопливо, через голову сняла ночную сорочку и откинула ее в сторону. В темноте зыбко обозначились плавные контуры белого тугого тела. Рука, поймав горячую сухую ладошку подруги, настойчиво потянула ее книзу. Бедра двинулись навстречу.
– Какая же ты, вся горячая и мокрая… Сочнее тебя, девок не встречала. Ты лучше всех барчуковых полюбовниц. А тело твое – словно шелк…
Тане не надо было дважды объяснять, что от нее ждут. Проворный язычок и ручки стремились доставить Глаше наслаждение в каждой потаенной ложбинке. Печальный опыт, полученный на барских развратных оргиях, пришелся здесь, как нельзя, кстати. Никто еще так искусно не ласкал Глафиру. Танюша настолько была нацелена на «отдачу» в любовных утехах, что напрочь забывала о своем теле. Сделать барыне приятное – в этом состояло ее главное удовольствие.
Тело Глафиры сотрясали бурные оргазмы, длинные сильные ноги то раздвигались, то вскидывались во всю длину, поверх одеяла. Влажный живот ходил волнами, отзываясь на страстные ласки подруги, чья голова, склоненная у сочной расщелины венериного выпуклого холма, напоминала голову страждущего путника у лесного родника. Танин горячий язык доводил Глашу до полного исступления, ловко и проворно скользя по лабиринтам коралловой сочной плоти. Опытная Танюша нашла применение и своим длинным пальчикам, Глашина вагина судорожно сжималась от их настойчивого и дерзкого проникновения.
Вдруг, будто вспомнив что-то важное, Танюша резко остановила свои ласки, спрыгнула с кровати, послышалось легкое шуршание… Спустя минуту, Глашина рука нащупала странный предмет. Потом, поняла – что это. То был оставшийся зеленый, пупырчатый огурец, девушки не стали его есть, огурец – переросток. О, как теперь он оказался кстати!
– Знаешь ли, душенька, что я окаянная думала накануне, когда огурчики рвала? Я ведь знала, что именно этот так славно в твою норку сладкую войдет.
– Откуда же ты, цветик, знать могла, ежели промеж нас не было ничего? – задыхаясь, спросила Глафира.
– Откуда, откуда… Чувствовала… Видела глаза твои, лучше слов они говорили за тебя – что тело без ласки тоскует. Ну, тогда, когда рассказывала о шалостях барских. Я же прямо там, в лесу, так и хотела нужду твою облегчить, еле терпела, боялась: вдруг, кто увидит нас… Я же знала, что ты поболее других охоча до утех сладких.
– Ох…Вставь же его скорее…Прижми повыше… Ах….
Огурцу, рукам, губам – всему нашлось применение в ту странную ночь. Обе подружки предавались этим играм, вплоть до рассвета. Лишь под утро заснули крепко – дала знать усталость. Можно ли нам, дорогой читатель, осуждать этих девиц за безрассудство? Едва ли… Ведь они находились в тех летах, когда голос плоти звучит много сильнее голоса разума.
Почти в этого же самое время, за несколько верст от имения Махневых, новоиспеченный жених, помещик Звонарев Николай Фомич находился в самом хорошем расположении духа. Он и не ожидал, что на склоне лет его мирная и спокойная жизнь, похожая на подернутое ряской, старое, тухлое болотце, вдруг всколыхнется такой мощной и свежей волной. Брызги этой нежданной волны так приятно взволновали его уставшую и ленивую душу. Судьба на старости лет щедро преподнесла сей счастливый, как ему казалось, дар. Но, то был скорее не подарок судьбы, а лишь ее прощальный мираж…
Как говорилось ранее, помещик Звонарев перед предстоящим сватовством решил хорошенечко помыться. Припоминая с трудом, последнее посещение «храма Гигиеи»[66], жених приказал как можно жарче истопить старую покосившуюся баньку.
Верный слуга Захар с удивлением наблюдал за тем, как его барин с несвойственной ему энергией, браво семенил по направлению к бане, неся под мышкой березовый кудрявый веник. Рядом с ним, волоча длинную негнущуюся ногу, хромой погодкой тащился одноглазый сосед, бывший штабс-капитан Егоров. Худая рука штабс-капитана, свернутая кренделем, деловито держала медный, подернутый зеленью, тазик.
После нескольких заходов в парилку, раскисший и розовый, словно младенец, Николай Фомич сидел, развалившись и чуть дыша, возле прямого и сухопарого Егорова. Серая простынь закрывала рыхлое и дряблое тело старика, березовый лист трогательно приклеился к круглому лбу, обметанному красными от жара, пятнами. Оба товарища напарились сильно, как не парились никогда ранее.
«Поддай жару посильнее, да отходи меня веничком, Тихон Ильич», – только и слышал в тот вечер Егоров от своего, ранее вялого, соседа. – «Ух, как хорошо, а ну, шибче поддай!»
«Вот, дурень, старый…», – думал про себя Егоров. – «И зачем так жариться в его-то лета? Крякнет, еще чего доброго от натуги. Совсем зюзя разум потерял…»
– Ты, уж прости меня, старого вояку, Николай Фомич, голубчик, – прокряхтел штабс-капитан, – а только я тебе так скажу, без обиняков… И правду, в народе говорят: «Седина в голову – бес в ребро».
– Кхе, кхе… Этот ты о чем-с? – еле поднимаясь с лавки, спросил Николай Фомич.
– Ну, как это о чем-с… Ты, пошто так сильно напарился? Думаешь, чище будешь – более невесте по нраву придешься? Так я тебе скажу: глупости это все!
– Ну, помилуй, в чем же глупость моя? Мне ведь свататься скоро ехать надо.
А у меня из-под рубахи уже давно щами кислыми несет! – проговорив это, Николай Фомич утробно рассмеялся. От смеха простынь сползла ниже, оголив круглый живот, покрытый седым пухом. Под арбузным пузцом, в устье худеньких коротких ножек пряталось вялое мужское достоинство, похожее видом на бледную бородку убитого петуха с маленьким красноватым клювиком.
– Эх, вижу я: добро тебя обработала Анна Федоровна. Напрочь мозги последние съела!
– Да ладно, уж, не ворчи! Пойдем лучше к столу. Водочки выпьем. Закусим хорошенько.
Они прошли в небольшую банную горницу. Посередине комнаты горбился округлый обеденный стол, льняная застиранная скатерть покрывала его полностью, свисая кистями почти до пола. Запотевший пузатый лафитник с узким горлом, наполненный до краев ледяной анисовой водкой, манил немилосердно. Несколько хрустящих малосольных огурчиков живописно расположились на старом, треснувшем фарфором блюде, венчики укропа и смородиновый лист обрамляли их с пупырчатых бочков. В ноздри врезался головокружительный и острый запах ветчины, вызывая здоровый аппетит. В распоряжении двух старых друзей еще были граненые рюмки, две вилки и краюха ржаного хлеба с подгоревшим боком. Кусок холодной жирной телятины на деревянной тарелке с отбитым краем завершал сей незатейливый натюрморт.
Выпив пару рюмок и хорошо закусив, друзья повели неторопливую беседу.
– Право, жалко мне тебя, Николай Фомич… Не «по Сеньке шапку» ты выбрал!
– Ну, полно тебе, вояка, жалеть меня. Смотри, еще завидовать будешь!
– Уж, чему тут завидовать? – с горечью в голосе, возразил Егоров. – Опять же, не суди меня строго, а только я правду привык говорить. Без правды жить легче, да помирать тяжко. Я по совести считаю: плохая это затея – женитьба твоя… Что за бред тебе в голову пришел? Да и рассуди здраво: ну, на что она тебе, жена молодая, да к тому же – красавица писанная? Да была бы еще дурища деревенская. А эта-то образованная.
– Вот ты меня, Тихон Ильич, удивляешь… По твоему разумению, я на старой карге должон жениться? – умильно захихикал Николай Фомич.
– Да по моему размышлению, ты вообще не должен уже жениться! Бесы тебя тешут. Года не те – женихаться… Уехала давно твоя карета с бубенцами. И звона не слыхать. Не смеши, ты, народ!
– Да полно тебе, Тихон Ильич, никого я не смешу. Много ли, в свадьбе любой смеху?
– Так свадьба-то разная бывает. Молодые люди должны свадьбы играть. Каждому овощу – свое время! Ну, скажи: приведешь ты ее после свадьбы в дом, а дальше что? Будешь с ней за руку хороводы по саду водить?
– Ну, почему же, хороводы? – выражение восторженной мечтательности появилось на физиономии у Николая Фомича. – Ты, не представляешь даже, как она хороша! Стать, фигура – все при ней! А какие волосики и пальчики – так бы и съел, как конфетки…