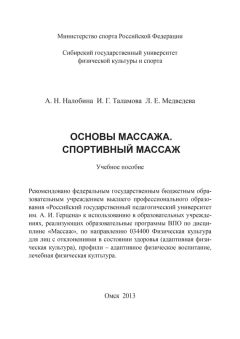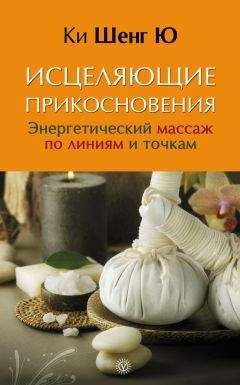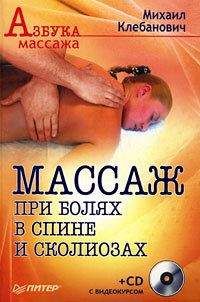Катрин Милле - Ревность
Небольшие истории, которые я придумывала, рычаги моего одинокого удовольствия, явились первым неоспоримым доказательством порабощенности моего воображения. Как ни странно, я пыталась сражаться на этой территории мгновенно получаемого удовольствия, чтобы вернуть себе свободу в мире фантазмов. Часто я принималась энергично ласкать себя, вспомнив былое, но ничего не получалось, даже самые обкатанные истории не могли больше вызвать у меня возбуждения, и, злясь от осознания своей дурацкой зависимости, я вспоминала ту или иную сцену, разыгранную Жаком с одной из его девиц. Я старалась понять, с какого же момента я попала в такое полное подчинение, затрагивающее самое сокровенное в моих фантазиях. Если бы я могла, то вытянула бы в одну сплошную линию зарубки на стенах моей воображаемой камеры; сначала я вела бы счет на месяцы, потом на годы, не зная, смогу ли я когда-нибудь вернуться к своему собственному половому акту.
Я не проявляла свой, увы, бесполезный дар ясновидения в других постепенно отвоеванных у меня сферах моей символической вселенной. В этой вселенной деревня д’Илье-Конбре, которую Жак хорошо знал, потому что провел неподалеку свое детство, была местом пересечения символов и эмоций. Мы неоднократно туда ездили, первый раз в обществе его родителей, потом в компании близких друзей; при содействии одного из них мы получили фотографию, запечатлевшую наши силуэты и предназначенную для обложки книги Жака. Мы позировали на крыльце маленькой гостиницы со странным названием (как мы могли его тогда не заметить?) «Отель де л’Имаж»[18]. Добавлю, что в наше первое лето, проведенное вместе, я читала «В поисках утраченного времени» и полюбила Пруста. Воды реки, протекающей через нашу жизнь, омывающей наши воспоминания, образующей их напластования, смешивают во мне впечатления от чтения воспоминаний, рассказанных от лица ребенка, моего собственного романа, написанного на основе историй Жака о его детстве, а также нашей совместной жизни, вехи которой вписывались туда, скромные по материалу, но насыщенные эмоциями. Впрочем, Жак не только совершил эту экскурсию в компании Л., они к тому же воспользовались случаем и сняли номер в небольшой гостинице «Мельница Монжувена». Разве сама я мысленно не рисовала подобную эскападу для нас двоих? Узнав, что кто-то сыграл мою роль до меня, я удивилась, поскольку ждала подходящего момента, чтобы предложить ему то же самое. И сразу сценка в очаровательной деревенской гостинице, навеянная страницей дневника, где я прочла эту новость, превратилась в комический штамп анекдота про адюльтер. Этот штамп преследовал меня, как реминисценция знаменитого пассажа, где подруга мадмуазель Вентей, прижавшись к ней, провоцирует ее на извращенные игры, угрожая плюнуть на портрет ее покойного отца, Пруст поместил эту сцену в доме последнего, которого называет Монжувен. С первого же прочтения этого эпизода такое поведение настолько захватило и так глубоко потрясло меня, что я даже перечитала его, не будучи уверенной, правильно ли я поняла, и стараясь удостовериться, не было ли с моей стороны слишком субъективного толкования. В этом, одном из самых диких моих фантазмов, я всего лишь воссоздавала почти вживую сцену, которую низводила до вульгарного утрированного полового акта: я прилепляла Жака к заднице молодой женщины, стоящей на четвереньках на кровати, при свете дня, в комнате, окна которой открыты и выходят в парк, и довольствовалась тем, что в то время, как он яростно двигал ее таз вперед-назад, будто имел дело с тугим выдвижным ящиком комода, я навязывала ему реплику, «что ни одна женщина не доставляла ему такого наслаждения». Это было для меня страшно унизительно, и на этом спектакль заканчивался. Я дозировала причиняемое себе страдание подобно садомазохистам — чтобы не испортить себе удовольствие, они не переходят предела, который способно выдержать человеческое тело. Плевок на мою собственную фотографию, возможно, был бы настолько невыносимым, что мне пришлось бы прервать эти фантазии. Вероятно, я могла бы разрешить себе мазохистское удовольствие только при условии, что оно будет выглядеть почти бурлескно, как это произошло с добродетельной, по мнению Пруста, мадмуазель Вентей, которая позволяла себе радости, только когда делала вид, что ей этого совсем не хочется.
Были и другие, более волнующие образы, которые накладывались один на другой. Много лет назад мы ехали на мотоцикле по горной дороге и увидели внизу пару (наверняка туристов), купавшуюся нагишом в реке, и пока это зрелище не скрылось из виду, мы веселились и с восхищением комментировали тело женщины — крупной и атлетически сложенной. Почти античный характер этой сцены был так прекрасен, что она прочно запечатлелась в моей памяти, хотя ничего не было с ней связано — мы больше туда не возвращались и впоследствии ни в какой связи не вспоминали с Жаком эту сцену. Однако мне показалось, что я нашла очень похожую сцену в его дневнике — описание легкого приключения, героями которого были он сам и некая Дани. Он перенес действие точно в то же место, на дороге в Серабону. Стояла жара, он остановил мотоцикл, они спустились к реке и искупались голые в «ледяной воде». Или я сама добавила это к прочитанному? Мне кажется, что все закончилось буколическим коитусом. У меня нет объяснения непонятному переносу эпизода, подсмотренного мною и Жаком в качестве зрителей, в пространство жизни, прожитое им одним, без меня. Возможно, зрелище купающейся пары настолько запомнилось ему и вызвало у него зависть, что впоследствии ему захотелось воспроизвести его. А может быть, я сама придумала псевдо-воспоминание на основе рассказа Жака? Или он сам все это придумал, перемешав воспоминания и желание? Таким образом, факты, перенесенные моим мозгом в зону воспоминаний, превращались в предвосхищение фактов из ускользнувшей от меня оборотной стороны жизни Жака. В другое время можно было бы заключить, что у меня открылся волшебный дар, как у дровосека из сказки: стоило тому загадать желание, как к его носу прирастала кровяная колбаса; стоило мне сформировать в уме какие-то образы, столь же невинные, как воспоминание о той летней прогулке, как они тут же материализовывались в поведении Жака, увеличивая хандру, и без того заполонившую мое существо.
Это напоминало десяток молитв, чтобы отгонять дьявола: я словно перебирала четки самых что ни на есть обыденных воспоминаний, и, с регулярными интервалами, стечение каких-то обстоятельств повседневной жизни и какого-то невинного эпизода из другой жизни Жака открывали передо мной ужасающую перспективу, в которую я погружалась, как мистик — в экстаз. Скажем, мы говорили о том, что нужно встретить на вокзале нашу приятельницу. Я тут же представляла себе, как он идет встречать другую женщину, берет у нее чемодан, целует в уголок губ. Бинокль был настроен особым образом; если во время фантазмов-мастурбаций я в основном была сосредоточена на положении тела Жака и на его лице, то здесь я видела только его лицо, приближающееся к фосфену[19].
Он предлагал мне пойти прогуляться; я паниковала, как будто, пойди я одна, я встретила бы их вдвоем на своем пути и не знала бы, как поступить — убежать, спрятаться или пройти мимо. Это повторялось так часто, что в результате какое-то время я проводила бок о бок с мужчиной, который в большой степени являлся плодом моего воображения и, несмотря ни на что, незнакомцем, буквально завораживающим меня. Мой внутренний взгляд был прикован к нему. Это был сон наяву, но как в настоящем сне, когда нас притягивает какой-то предмет, до которого мы не можем дотянуться, увязая в чем-то липком, так и в своем сне наяву я была не в состоянии добраться до Жака, и это только подстрекало мое любопытство и усиливало мою тоску.
Другая жизнь Жака, которую я видела в своих грезах, была раем, где он, казалось, ничтоже сумняшеся, беззаботно получает удовольствие, не испытывая ни чувства вины, ни горечи, не заботясь ни о сентиментальных, ни о моральных оправданиях, просто забыв о моем существовании. Его поступки были эгоистичны, а их логика для меня, полного профана, оставалась абсолютно непонятной. Мне не за что было уцепиться. Но даже если он что-то скрывал, врал, обманывал, рассказ не давал тому никаких психологических объяснений (например, Жак хотел наказать меня или отомстить за какую-то совершенную мной ошибку), все это указывало на идеально разработанную механику. Мой страх был сравним лишь с чувством, которое я испытывала ребенком, когда мне рассказывали о заповедях, данных людям древними богами безо всякого объяснения. Я превратила Жака в миф.
Я извлекла на свет божий письма, полученные в начале наших отношений и в спешке тогда же прочитанные; на этот раз я подчеркивала красным отдельные фразы. Как можно было привязать к себе того, чья любовь отвергала «семейную логику» и делала «невозможным путь мелких подлостей и компромиссов»? Того, кто сумел организовать свое время так, чтобы я оставалась в неведении, что он втайне от меня заполняет его разными событиями? Что для того, чтобы делить это время с другими женщинами, он превратил наше жилище в место, которое отныне, как мне казалось, гораздо больше принадлежало ему, чем мне? Чтобы я не знала о том, что памятные нам обоим прогулки, которые мы не раз совершали, теперь могли напоминать ему об удовольствиях, в которых я не принимала никакого участия, но которые его нечеткая память путала с удовольствиями, полученными нами вдвоем? Какой предлог мог найти для себя тот, кто написал: «Ложь бывает вызвана лишь сексуальными причинами. Этика не имеет отношения к сексу. Мы не лжем, ничего не скрываем, истинно порочный человек всегда откроет правду, и это может закончиться катастрофой», когда он должен был отлучиться и скрыть от меня истинную причину? В одиночку я никак не могла связать одного Жака с другим. Я признавала, что прекрасно понимаю содержание писем, отложенных на потом, в тот момент, когда они попали мне в руки, они продолжали сообщать сверхъестественную правду, к которой я никогда не буду готова. Но мое доверие к Жаку оставалось слишком глубоким, чтобы я могла заподозрить его в цинизме в период написания этих писем, а позднее — в непоследовательности или предательстве. Таким образом, я пребывала в нелепом, но искреннем ожидании, что в логику доводов, которые он мне тогда приводил, окажется вписанным рассказ о его связях с женщинами. Я провоцировала бесконечные объяснения, которые происходили, когда мы сидели напротив друг друга за обедом, лежали бок о бок ночью, беседовали по телефону, если Жак находился на юге, а я в Париже; все могло начинаться с писем, которые мы посылали друг другу, а заканчиваться разговорами, длившимися часами. Случалось, что мы обменивались репликами, не повышая голоса, но чаще всего, поскольку мне нужно было полностью завладеть его вниманием, я действовала как разладившийся компас. Сначала я качала головой вправо-влево и размахивала руками, потом включалось тело, а затем опустошающие рыдания. Мы называли это «кризис».