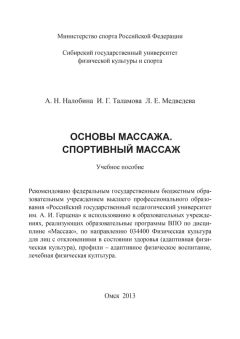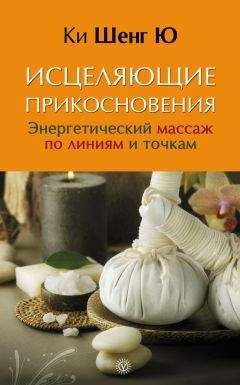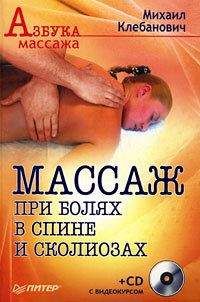Катрин Милле - Ревность
Я располагала достаточным количеством информации, чтобы представить себе не только эпизоды эротического характера, но и поведение Жака в различных ситуациях: поездки, о которых я знала, но не предполагала, что они имеют и скрытую цель — провести несколько дней в обществе женщины; обеды, вечеринки, куда он водил одну из них — к близким друзьям или же к людям, с которыми я совсем не была знакома и даже не подозревала, что он с ними в контакте; вокруг него словно была развернута разветвленная сеть, сотканная из поступков и взаимоотношений, куда мне физически не было доступа, отзвуки его жестов, слов и привычных действий — банальных и загадочных одновременно — разлетались во все стороны, и я, не задумываясь, могла бы воссоздать их. Два или три раза Жак, в отличие от меня не обладавший скрупулезностью мемуариста, пытался напомнить мне, ничуть не сомневаясь, что мы были там вместе, о том, что происходило на вечеринке, где я не присутствовала. Хорошенько поразмыслив, я могла бы найти утешение в том, что мой образ вытеснил из его памяти чей-то чужой. Но тут же возникал новый вариант. Огромная емкость, олицетворяющая нашу совместную жизнь с Жаком, начинала медленно сжиматься, допущенный им промах приоткрывал новый крохотный клапан, и через него улетучивался воздух, которым мы дышали. Могу сказать, что я физически ощущала, как клапан, расположенный где-то в моем теле, вновь закрывается, выпустив наружу еще один пузырек воздуха.
Отныне я жила в клетке, я видела, как Жак уходит и возвращается, изредка исчезая за горизонтом, а я не могу догнать его и проникнуть в его личное пространство. Если он, отвечая на чей-то телефонный звонок, тут же отходил в сторону, правда, не забывая из предосторожности сразу же уточнить: «А, привет! Мы с Катрин как раз сейчас…», или вешал трубку, чертыхаясь, что опять не туда попали, теперь я не только не сомневалась, что его добивается одна из подружек, но по двум-трем словам, уловленным настороженным слухом, я тут же могла соотнести эту женщину с конкретной, почти физически присутствующей, личностью. Это внезапно возникшее видение почти всегда напоминало один и тот же словесный портрет, смесь различных типажей, извлеченных из смутных воспоминаний о женщине, которую я либо встречала, либо видела на фотографии, либо читала описание ее тела в дневнике Жака: очень молодая, полноватая, с каштановыми волосами… У меня перехватывало дыхание, будто я рылась в его письменном столе, ненадолго возникала тахикардия.
Клетка становилась все более и более тесной. Однажды к нам домой пришла Бландин, чтобы снять несколько сцен для своего фильма. Ей требовалось присутствие Жака и декорации, для которых подходил наш дом. Я закрылась в крохотной комнатке, служившей мне тогда кабинетом, и работала. Неожиданно туда заглянул Жак и попросил меня выйти к ним, чтобы по ходу развития сюжета подать несколько реплик. Его поступок показался мне неслыханно жестоким. Я была в состоянии открыть Бландин дверь, поздороваться, но не могла зайти туда, где она находилась вместе с Жаком, как будто он все еще жил в своей маленькой студии, где уже очень давно мы впервые открылись друг другу, но втроем чувствовали бы себя крайне стесненно. Опасность заключалась в том, что я с трудом сохраняла присутствие духа в пространстве, где разыгрывались мои кошмары. Разумеется, я могла не опасаться двусмысленного поведения — ни с его, ни с ее стороны, — которое поставило бы меня в неловкое положение, уже потом я сказала себе, что, возможно, рисковала соотнести свои вымыслы с реально существующими людьми, и это меня пугало. Как знать, не сама ли я толкнула их на тахту, чтобы они наконец занялись сексом, как я тысячи раз рисовала это в своем воображении, а потом удалилась, по сути изгнанная ими, как предвосхищал один из моих сценариев. В конце концов я привыкла к подобным ситуациям, поскольку в прошлом сама была искушенной в такого рода делах, мне знакома роль начинающей сутенерши, которая подводит женщину к мужчине в более или менее импровизированных групповых оргиях. Дважды или трижды я вовлекала Жака в свои игры, провоцируя любовный треугольник с участием моей подруги; речь идет о редких случаях, когда я не смогла довести до конца свою роль и становилась агрессивной. Получается, что я спровоцировала эту сцену сама и, вместо того, чтобы, как в мелодраме, наслаждаться собственным отлучением, я примешала фантазмы к этим ничтожным воспоминаниям, и они обернулись провалом? Более вероятно, что вообще ничего не произошло бы, и в таком случае я была бы вынуждена отказаться от своих фантазмов и подчиниться парадоксальной реальности лже-двойников: Жак и Бландин приспособились бы к моему присутствию, а сама я лицемерно вела бы себя так, словно ни о чем не подозреваю. Разве не бывает, что, просыпаясь от страшного сна, мы медлим, прежде чем открыть глаза, не потому что боимся, что сон продолжится, а наоборот, потому что боимся выйти из него, ведь в глубине души нам не хочется вылезать из кокона приглушенного страдания, мы предпочитаем сохранять это состояние в своем подсознании как можно дольше, поскольку где-то совсем глубоко понимаем, что оно неизбежно? Все это, конечно, не было для меня очевидно, когда я вместо ответа скорчила Жаку недовольную мину, вызвавшую у него раздражение. Я осталась наедине со своим компьютером.
Жак и его теория фантомов взяли верх, почти не оставив мне возможности свободно распоряжаться собственным телом. Я, например, теперь не могла пользоваться своим мотоциклетным шлемом, обнаружив внутри волосы, которые, судя по длине, не могли быть моими. Начиная с этого момента, я наблюдала у себя автоматизм движений; скажем, я открываю гараж после возвращения с прогулки — вот я поворачиваю ключ, распахиваю первую створку двери, вытаскиваю утопленный в земле штырь, блокирующий вторую створку, вытаскиваю, встав на цыпочки, верхний штырь, наконец, отворяю эту створку, чтобы мог пройти мотоцикл, — при этом я сливаюсь с силуэтом другой женщины, поскольку уверена, что во время своего пребывания в нашем доме она должна была освоить те же движения. Еще сегодня часто бывает так, что я выполняю набор этих действий прилежно, как будущий актер, который старается копировать жесты, показанные ему учителем, или даже встает у того за спиной, чтобы, как тень, тотчас же воспроизвести увиденное. Это распространялось и на ванную, ставшую чужой территорией. Уже давно Жак просил меня досуха вытирать бортик ванны после душа, чтобы не намокла стена. Каждый раз я машинально, но тщательно выполняла это задание, когда как-то утром неожиданно спросила себя — а давал ли он аналогичные инструкции другим временным пользовательницам нашей ванной и подчинялись ли они? Начиная с этого момента, ежедневно, завершая свой туалет, я повторяла этот жест, который дублировал жест, проделанный до меня другой женщиной. В результате я несколько минут пребывала в прострации. Завороженная этим зрелищем, я не могла заставить себя двигаться, а иногда, поскольку приходилось выждать какое-то время, на глаза у меня наворачивались слезы. Слезы так же регулярно появлялись при виде собственного отражения в зеркальце на ножке, которым я пользовалась, когда красилась и снимала косметику. Из-за охватывавшего меня смятения мне с трудом удавалось смотреться в него, не отрываясь; я одновременно испытывала ностальгическую вину (так бывает, когда на глаза попадается портрет ушедшего человека, которого мы очень любим, но лишь изредка бросаем украдкой взгляд на его изображение, боясь признаться себе, что знакомые черты почти стерлись из памяти), и меня угнетал стыд: теперь этот взгляд оказался перенаправлен на меня саму и фиксировал безумные глаза той, кого я считала жалкой истеричкой. Ведь способность посмотреть на себя непредвзято никогда, даже в самые страшные минуты, полностью не покидала меня. Мои глаза встречались с глазами, лишенными всякого выражения из-за того, что я одновременно испытывала противоречивые чувства отвращения и жалости к самой себе, и мне кажется, что даже не различала очертаний собственного лица.
Небольшие истории, которые я придумывала, рычаги моего одинокого удовольствия, явились первым неоспоримым доказательством порабощенности моего воображения. Как ни странно, я пыталась сражаться на этой территории мгновенно получаемого удовольствия, чтобы вернуть себе свободу в мире фантазмов. Часто я принималась энергично ласкать себя, вспомнив былое, но ничего не получалось, даже самые обкатанные истории не могли больше вызвать у меня возбуждения, и, злясь от осознания своей дурацкой зависимости, я вспоминала ту или иную сцену, разыгранную Жаком с одной из его девиц. Я старалась понять, с какого же момента я попала в такое полное подчинение, затрагивающее самое сокровенное в моих фантазиях. Если бы я могла, то вытянула бы в одну сплошную линию зарубки на стенах моей воображаемой камеры; сначала я вела бы счет на месяцы, потом на годы, не зная, смогу ли я когда-нибудь вернуться к своему собственному половому акту.