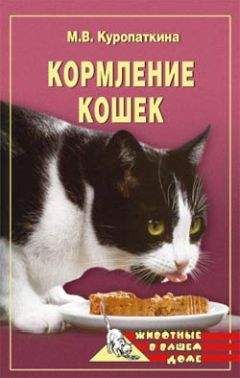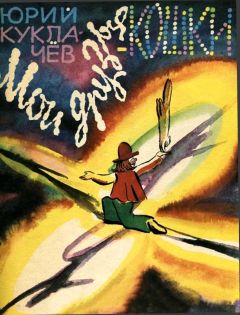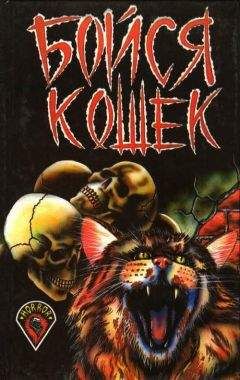Анжелика Горбунова - Записки из конюшни
Грубый окрик Славы вывел меня из оцепенения. Куда девались улыбочки и прижатие ручек к сердцу? Вот, значит, как? Стало быть, предчувствия меня не обманули. Проходя вдоль стены, я брезгливо сжался, стараясь не коснуться какой-то кучи. Не успел я осознать, что это, как куча зашевелилась и, выдав бормотанье в упряжке с отрыжкой, приняла вертикальное положение. «Куча» оказалась человеком. Эти его действия сопроводились таким запашком, что я чуть не прикрыл нос копытом. Я не в совершенстве понимаю человеческий язык, но все равно уверен, что то, что выдало это существо, речью не называется. Наконец меня завели в саму конюшню… Несколько пар тусклых, безрадостных, а у кого и гноящихся глаз воззрились на меня. Их обладатели даже не предприняли попытки как-то прореагировать на мое появление, как подобает жеребцам. Усталость и апатия лезли из каждого денника. Увидев грязные стены, ржавое корыто с плавающими окурками в несвежей воде, тенёта, будто занавеси свешивающиеся с потолка, голые полы, залитые мочой, и навоз вместо подстилок, я замер. Я и в страшном сне не мог представить, что так можно жить. И это в двадцать первом веке! И жгучая волна тупой ненависти к двуногой дряни, идущей рядом и мнящей, что может повелевать такими, как мы, ударила в мозг. Одно мое движение влево, небольшое усилие — и этот «венец творения» будет сплющен в плакат, какие Иринка развесила у меня в деннике для моего эстетического развития. Но именно Иринкин образ и отвлек меня от этого порыва. Она-то у меня действительно «венец творения». И всплеск дикой злобы сменился уничижающей жалостью к рядом идущей каланче, которая, конечно же, осознавала себя человеческим самцом, везде одерживающим победу. Мне стало интересно, почему человечество, дошедшее умом до технических, медицинских и прочих чудес, осталось таким тупым по отношению к нам, лошадям? Откуда этот инстинкт превосходства, причем ничем не оправданный?! И почему так нелепо устроено человеческое сознание, что чем выше человек в своем табуне по заслугам, благородным качествам, тем он более считает себя недостойным чего-либо хорошего в силу скромности? А то, что называется человеческими отбросами, мнит себя хозяином и повелителем? Я снова подумал о своей Иринке. Она умна, добра, красива, порядочна, но всегда, любуясь, как я резвлюсь в леваде, изощряясь в прыжках и стойках, называла меня эталоном красоты и благородства. И искренне возмущалась, что кто-то называет так каких-то убогих теток на плакатах в разноцветных журналах, которые сами же и платят бешеные деньги, чтобы их так называли. Но это я отвлекся. Выпрыгнув из воспоминаний об Ирине, я очутился в холодной и грязной реальности, где проведу десять дней. А эти бедолаги, что стоят в денниках по обе стороны от меня, живут здесь всю жизнь!
Меня завели в денник, где я кое-как смог развернуться, так что особо резвых пируэтов не получится в силу тесноты. С потолка свешивались канаты паутины, которая не убиралась, наверное, со времен постройки конюшни. Пол голый, света почти нет, так как окно затянуто паутиной и не мылось с тех пор, как Бог сотворил лошадь. Я огляделся в поисках кормушки и поилки и увидел какой-то полуразбитый ящик, лежащий в углу на остатках сухого навоза. Поилки не было и в помине. Осознав, что попал в лошадиный ад, я решил бороться!
За мной закрыли дверь, предварительно кинув шмат старой травы. Сразу же в носу засвербело от пыли. Я тупо уставился на то, что мне кинули, пытаясь понять назначение этого клока. Для подстилки мало, да и не лягу я на эту грязь. Я осторожно заглянул через брешь в стене к соседу слева, меня передернуло — он это ел! И желание борьбы и победы поселилось в каждой жилке моего тела.
Вскоре настал вечер. Кроме пыльной спрессованной травы, никакого корма больше не подали, и лишь почти ночью, перед сном, нас вывели попить. Я, отупев от омерзения, смотрел, как лошади пили из ржавого корыта с плавающими окурками. Кое-как справившись с потрясением, я наконец-то разглядел всех. Грязные, в «стекляшках» бока, с торчащими ребрами и моклоками, спутанные гривы и разбитые вдрызг копыта… Вывел меня из ступора окрик конюха в сопровождении каких-то странных слов, которые я совсем не разобрал. Как мне потом пояснил сосед из левого денника, это — мат. Из его сбивчивых разъяснений я понял одно: когда человеку нужно придать словам особую значимость, используют этот самый мат. Жаль, что я не говорю на человеческом языке, я бы уж придал словам такую значимость!!!
Пить я в этот вечер так и не стал, не смог себя пересилить. Но к утру уже изнемогал от жажды и, добравшись до корыта, принялся цедить это пойло сквозь зубы.
Три последующих дня прошли без каких-либо событий и развлечений. Меня будили резкие голоса, отвратительные запахи, исходящие от обслуги, это если закрыть глаза (вернее, ноздри) на те ароматы, что источали наши денники. Нам кидали те же клочья травяной плесени, которую есть просто невозможно, дышали в носы перегаром и орали. Теперь я понял, почему у всех моих соседей уши почти всегда лежали на затылке. Я за эти три дня изрядно унавозил пол и обильно полил это понятно чем. И все ждал, когда же придет конюх с совком и отобьет денник. Как же я был наивен! Если бы это здесь полагалось, не было бы таких запахов. И когда я уже по венчик копыта утопал в вонючей жиже, перестал ждать.
Однажды утром я проснулся от шума множества голосов. Собрался весь персонал. Конюхи под руководством начкона вымели проход между денниками, затем собрались чистить в самих денниках. На время отбивки нас выводили в манеж. Все эти дни я ждал, когда же меня выведут на улицу, в леваду. Но сосед справа, тоже, кстати, тракен, прыснув, подвел итог, что моей наивности нет предела.
— Здесь выводят гулять лишь в редких случаях. А вон тот, что стоит через стенку от тебя, вообще ни разу не гулял с рождения. А ему восемь лет!
Я похолодел. Восемь лет не видеть неба, не знать, что такое солнце, ветер, дождь, звезды?!
Утренняя суматоха имела причину. К нам ехали те, кого дядя Миша называл «чирей на ровном месте» или «чинуши». О ровном месте я имею представление и знаю, как приятно носиться по такому месту, где ничто не мешает и не стесняет движений. В силу этих сравнений и рассуждений я сделал вывод, что к нам едут те, которые в обычной жизни всем мешают. По мнению дяди Миши, от этой породы толку мало, а вреда много. И именно эти самые вредоносные чинуши к нам и приехали.
Начкон носился как взбесившийся шмель, и его визгливый голосишко метался под сводами конюшни. Он отдавал распоряжения дневальным и конюхам. Значение этих распоряжений осталось для меня непонятным, так как для придания словам значимости начкон, конечно же, матерился. И я решил! Этот день будет первым адским днем для обслуги. Однажды из уст Ирины, после просмотра какой-то жуткой передачи про лошадиную жизнь без прикрас, вырвался негодующий вопль вместе с плачем. Почему мы, такие огромные, сильные, не можем поставить людских негодяев на место?!
И вот сегодня я стану одним из таких, чтобы хоть на какое-то время, что я пробуду здесь, отыграться на негодяях.
Двери с обоих концов конюшни резко распахнулись, и свежий воздух коснулся ноздрей. Первым вкатился начкон. Его ножонки в широченных подштанниках шустро семенили, неся кругленькое тельце. За ним шла толпа людей тяжеловозной, или, скорее, тяжелопузной породы. Начкон аж повизгивал от желания угодить гостям. Он поводил ручонками, показывая на нас, называя по именам и обещая скорую выводку. Свежеприехавшие пузаны мило улыбались и умилялись, а у меня шевельнулась было надежда, что, увидев паутинно-пыльные роскошества, в силу должностей они помогут, но… Весь табун принялся нахваливать начкона за заботу, преданность лошадям и такую редкую в наше время хозяйственность. Поток восхвалений был прерван грохотом — я не вытерпел и засадил копытом в стену. Тут же сквозь железные прутья двери денника ко мне просунулись липкие пальцы одного из чинов, пожелавшего меня погладить. На что я немедленно клацнул зубами. Через некоторое время началась выводка. Правда, сначала произошла выползка пьяных конюхов. Оказалось, что начкон распорядился накрыть стол прямо на улице. Гости будут кушать и любоваться нашей красотой. А щедрые гости, урча от удовольствия, всунули мужикам деньги, в качестве приятного сюрприза. Ну, те и нашли им надлежащее применение и вскоре передвигались при помощи мышц живота. Более-менее способным к удержанию тела в вертикальном положении оказался Слава-Губа. На него-то мечущий искры Петрович и возложил обязанность выводить нас пред очи пузанов. Еще стоя в деннике, я слышал хвалебные речи начкона в мой адрес. Я и красавец, я и талант, а выезжен как — просто мечта! Да, ты прав, Петрович! Но только все это для моей Иринки и Людей, а не для таких, как ты.
Ну, раз гости, осмотрев дырявую и грязную конюшню, нашли ее хорошей и добротной, то и я покажу вам такую же красоту. Больше всего я переживал за молодого светлогривого тяжеловоза, который никогда не гулял. Вот сейчас он на какие-то минуты увидит солнце, вдохнет запах травы, почувствует на боках летний ветер и… опять в свою камеру. Я видел его глаза, когда он возвращался. Это решило всё.