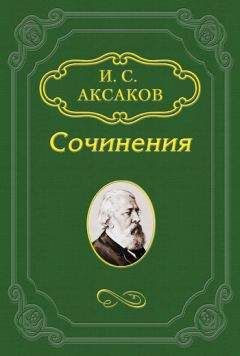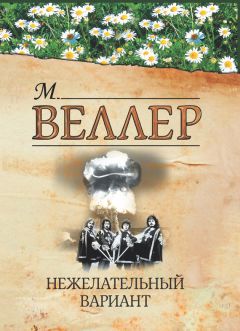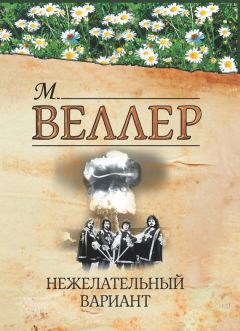Андрей Платонов - Том 8. Фабрика литературы
Это верно, хотя здесь изложена мысль врага.
Итак, Петр в тюрьме; Иван, уходя от мести полицейских за убийство полицейского Людзика, погибает в болотах на восточной границе; горят усадьбы осад-ников; Ядвига соединяет свою жизнь с врагом народа, осадником Хожиняком. Что меняется в мире, откуда светит свет? Меняется многое — сквозь отчаяние, неся жертвы, напрягаясь в терпении и подвиге, обездоленный народ все же движется к своей собственной цели.
Ядвига стоит ночью у окна. Муж храпит на кровати. Будущее ничего не обещает молодой женщине; она сама не захотела бороться и завоевывать свое будущее; она сама, став женой осадника, отрезала себе путь в деревню, где сейчас поют девушки, которые могли бы быть ее подругами, но теперь не будут.
«Далеко на мостике запели девушки…
Поведут меня брестской дорожкой
Два жандарма, и прямо в тюрьму…
Девушки пели на мосту; громкие, свежие голоса вызывающе неслись в ночной мрак, песня плыла по туманам, стлавшимся над водою, по ольхам, кудрявившимся в сумерках, по жасминовым кустам в саду…
В одиночке сидеть очень скучно,
Там я буду с тоски помирать;
Сердце кровью мое обольется,
Как я буду друзей вспоминать…»
Девушки-крестьянки поют печальные песни, но голоса их звучат вызывающе, — они поют не во имя печали, но ради надежды; в песнях их есть горе, но нет отчаяния. Песня их как бы осваивает горе, переживает и преодолевает его.
«Что же ты сделала? Где ты,
Ядвига, Ядвига, Ядвига?»
Ядвиге тоже трудно и горестно, но ее трудность, ее горе совсем иное, чем печаль Олены, сестры заключенного Петра, которая поет сейчас там с подругами, на мосту. Ядвига «думала о себе, словно о ком-то постороннем и хорошо знакомом, о ком-то, кого надо пожалеть, ах, как глубоко пожалеть… Где спрятаться, куда бежать от самой себя?
…За окном стояла тишина— и опять ворвались в нее звонкие голоса…
Привык я к камере немилой,
Привык к висячему замку,
Привык к решетке я железной,
Привык к тюремному пайку…
О ком думают девушки на мосту?»
О многих и о многом. Они думают не только о своих заключенных женихах и братьях, — они думают о всей судьбе, своей и чужой. И если они умеют из своей печали сложить и спеть песню, значит — они имеют способность к надежде и силу для борьбы, значит— их горе преходяще, и счастье для них возможно. И, кроме того, их много, они обручены между собою тайной и прочной связью дружбы и единодушия, потому что они — народ, а Ядвига — отщепенец, почти изменник.
«Далеко во тьме светился слабый огонек. Где-то на болотах, за рекою горел костер возле рыбацкого шалаша».
Что там? Ядвига знала, что там:
«Красное пламя падает на сидящих у костра людей, на коричневые, сожженные солнцем и ветром, высушенные голодом, голодом летним и голодом зимним, мужицкие лица. Спокойные и всегда одинаковые. Сидит Кузьма, который возвращался к своей земле из-за Берлина, — и ногтями вырывал эту землю из-под колючей проволоки, из-под чешуи снарядов. Сидит Макар, владелец вечно расползающейся сети… — и все они, выросшие на этой земле, окупающие эту землю голодом, потом, слезами и смертью, связанные с нею навеки, с лицами цвета земли, с тишиною земли во взглядах».
Художественная сила Василевской, и не только художественная, но и сила объективной истины, не требует с нашей стороны ни особого разъяснения, ни подтверждения. Настоящий художник делает все сам за себя. Нам остается лишь попытаться понять действительность, изображенную писателем, и притом понять так, чтобы наше понимание приблизилось к мысли писателя.
В чем же заключается окончательное следствие или вывод из романа «Пламя на болотах»?
Гибель Ивана, убегавшего в Советский Союз, отчаяние тех, кто остался позади Ивана, подсказывают единственно правильный вывод. Надо было пойти навстречу идущим к нам и погибающим… Судьба польских батраков и польского крестьянства не лучше, чем была судьба украинцев и белорусов в восточных областях бывшего польского государства.
Батрак Кржисяк вспахивает поле под картофель — так начинается роман «Родина».
«Надвигалась зима. Сонная мгла стлалась над полями, путалась в зарослях, оседала в ложбинах. Бледное солнце недвижно стояло на полинявшем небе.
— Н-но, пошла!»
Сонная, долгая мгла стелется над всей страной. На мокрой, унылой земле стоят бараки для батраков. Невдалеке от бараков помещичья усадьба. Далее — деревня. И хотя в деревне положение лишь немногим лучше, и то не для всех крестьян, чем положение батраков в помещичьих бараках, все же батраки чувствуют разницу между собой и крестьянами. Там — самостоятельные хозяева (по одной видимости, конечно), здесь — наймиты, у которых ничего нет, даже жилища: помещик может выселить любую батрацкую семью.
Медленно тянется жизнь в бараках. Беспрерывный труд, в теле тоскливая, непреходящая слабость от плохого хлеба, пустой похлебки, картошек, впереди — мгла скучной, печальной жизни; жалко только женщин и детей, и себя тоже иногда жалко, — поэтому и приходится терпеть такую судьбу, может быть, в будущем и случится что-нибудь.
В «Родине» Василевской изображение быта и труда батраков доведено до такой степени реальности, что читатель явственно, физически ощущает и кислоту в желудке от батрацкой пищи, и тяжкий воздух барачного помещения, где спят несколько семейств, и пробуждение на зимней холодной заре, когда надо идти на работу, и тяжесть земли под лемехом плуга.
Редко кто из писателей владеет уменьем изображать самый процесс труда — изображать не столь прекрасно, сколько точно, что и будет прекрасным. Василевская это умеет делать.
Батраки работают на соломорезке. Наступили сумерки.
«Когда стемнело, пришел приказчик и принес фонарь… Они (батраки. — А. П.) больше не разговаривали. Невмоготу было, насилу переводили дух, насилу выжимали из себя работу. Теперь уже с трудом давалось каждое движение. Оно длилось бесконечно, разделенное на мелкие части, утомительное, казавшееся непосильным. Не покидала мысль, что вот надо нагнуться, надо нажать, надо повернуть, надо подать сноп и резать сечку так, как наказывал приказчик».
Надо было все это испытать, чтобы так верно описать труд, а опыт не менее важная вещь, чем талант. Для переутомленного человека сопротивление работы начинает возрастать именно в геометрической прогрессии, когда грамм обращается в килограмм, а время работы разделяется на секунды, а каждая секунда напряжения ощущается как острое страдание.
Медленно созревает, доходит до истины сознание в батрацком мозгу, — медленно не потому, что разум батрака истощен в рабском труде — рабство истощает, но рабство и учит, — но потому, что батраку, обманутому кругом, трудно поверить во что-нибудь, что действительно полезно для него, трудно даже допустить, что на свете возможны силы или обстоятельства, благосклонные к батраку.
Но передовые рабочие из города сумели убедить батраков, в том числе и Кржисяка, в пользе и в истине своего революционного учения. Рабочие доказали серьезность своих намерений не только словами, но и жертвами. Кроме того, доказательство истины революции находилось и возле самого Кржисяка — в батрацких бараках, в непосильном труде, в вечной нужде, оно было написано на лице его жены, на лицах батрацких детей, — на всех была одна печать горя, истощения и близкой смерти.
Но истина революции, рожденная из действительности, была замутнена, загажена и обращена в ложь польскими буржуазными националистами. Назревавшая пролетарская революция была подменена националистической. Кржисяка убедили, что причина зла — в русских, или австрийцах, или немцах. Если избавиться от них, то сама собой возникнет свободная крестьянская родина. На этой родине найдется и для Кржисяка своя изба, своя земля, своя корова, свое счастье. Все дело, дескать, в том, чтобы образовалась крестьянская Польша. И Кржисяк, много раз рискуя жизнью, борется во имя этой новой, крестьянской родины.
Дело, как известно, кончилось тогда созданием буржуазно-панской Польши. Для батрака ничего не переменилось, если не считать, что ему стало жить еще хуже. Целая жизнь, великий труд, жертвы, борьба — все пошло прахом; не совсем, правда, все пошло прахом: в голове и в сердце Кржисяка многое переменилось. Однако эту перемену своего сознания Кржисяк может завещать только будущему; он уже старик, он не может жить вторично; хотя с его опытом, с его знанием жизни, с его способностью к борьбе только теперь и следовало бы пожить. Он бы уж не потерпел краха, он бы не допустил, чтобы существование людей в их старости осталось бы таким же страдальческим, каким оно было в их юности, и даже хуже, чем в юности.