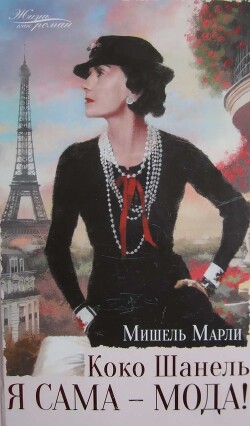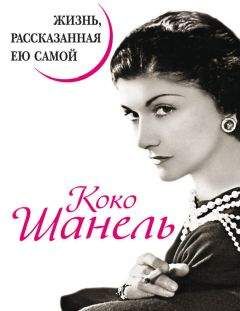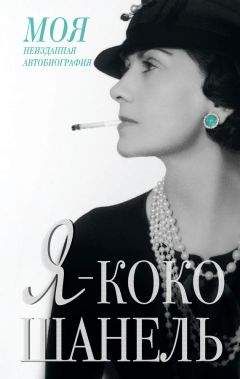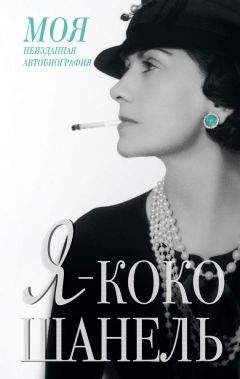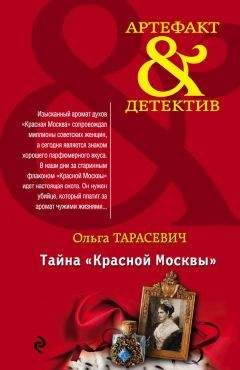Аромат империй. «Шанель № 5» и «Красная Москва». Эпизод русско-французской истории ХХ века - Шлегель Карл
В самом деле, война, государственные перевороты, революции, гражданские войны означают конец целостного мира. Но эти процессы имеют некое обонятельное измерение. Удивительно, как много понадобилось времени, чтобы учесть элементарный опыт восприятия запахов в моменты исторических катастроф. Или хотя бы принять его к сведению, включив историческое воображение.
А между тем Ален Корбен опубликовал образцовое исследование о распаде, крушении мира запахов французского Ancien Régime. Постепенно и в России стали появляться публикации о том же феномене, например монографии и выступления на конференциях Ольги Вайнштейн 57. Первым, кто попытался рассмотреть революцию как революцию чувств и восприятий, был Ян Плампер. Эту точку зрения на историю он изложил в своей книге, написанной к 100-летней годовщине русской революции. До него история осмысливалась как борьба идей, конфликтов между фракциями, стратегических дебатов и тактических акций и конфронтаций. Но этот подход меняется на глазах. В классическом очерке Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» Плампер обнаруживает сенсорный и сенсорно-ментальный подход к описанию истории и городской топографии и целый пандемониум чувств.
В этом пандемониуме мелодия «Марсельезы», пение «Интернационала» играют такую же роль, как шум уличных боев и запах гари после пожара, уничтожившего здание Военного суда и все его документы. Переход от царского гимна к «Интернационалу» акустически маркирует движение от одного этапа революции к другому, ступени ее ускорения и радикализации. И с таким же успехом можно проследить развитие «обонятельной классовой борьбы» 58. Дым дорогих сигар еще не выветрился в буржуазных гостиных, но он становится символом того мира, который трещит по швам. Органы чувств фиксируют утрату знакомых запахов по мере того, как прекращается доставка дров и пекарни перестают доставлять французские булки. Классовое сознание обретает обонятельное измерение. Чиновники, служащие, светские дамы начинают приспосабливаться к иному, все более фрагментарному миру запахов. В привычную атмосферу внезапно проникают другие звуки, другие запахи. В трамваях, пока они еще ходят, пахнет солдатами, вернувшимися с фронта, или дезертирами. Это запах, свойственный мужчинам, которые месяцами не мылись, сидя в окопах. В мир надушенных барышень, фланирующих по Невскому или Тверской, доносится едкая вонь самокруток. Раньше в театры ходила избранная, образованная публика, умевшая тихо сидеть на спектакле, привыкшая к антрактам и овациям. Теперь под люстрами на обитых красным бархатом креслах сидят зрители, никогда прежде не видевшие ни одной пьесы. И держатся они соответственно: курят, лузгают семечки, сплевывают шелуху на мраморный пол фойе, и вообще не умеют себя вести. Запах фронта и привала, пот заводского труда, вонь переполненных железнодорожных вагонов пробиваются в зоны благоухающей и дезодорированной высокой культуры и воспринимаются буржуазной и аристократической публикой как неприятные, вульгарные, отталкивающие, отвратительные и даже варварские. Поначалу это только проломы, бреши в стене герметически закрытого и упорядоченного старого режима со всеми его благоуханиями. Но очень скоро этот мир рассыплется на острова, анклавы, архипелаги, убежища старых запахов. Самое его существование будет поставлено под вопрос. И только теперь «общество» осознает: все, что казалось само собой разумеющимся — гостиная, банкет, интимная жизнь буржуазии и аристократии, интерьер вместе с его ароматами, — все обречено на гибель. Социальная революция посягает на самую глубокую привязанность имущего класса, на его жилище и кров, где когда-то он мог устраиваться и выживать, и куда теперь проникают «новые хозяева», следуя призыву «Интернационала»:
В каждой из восьми комнат квартиры, где до сих нор проживала одно-единственное семейство с обслуживающим персоналом, поселяется теперь целая семья, то есть квартиру занимают не шесть — восемь, а чуть ли не сорок жильцов. Это влечет за собой кардинальное изменение среды обитания не на краткое время, а на многие годы, даже десятилетия. И не для одного, а для нескольких поколений горожан. Результатом крушения старого режима, бегства крестьян на фабрики в города было рождение коммуналки. Взаимная слежка, доносительство, стукачество как неизбежное следствие вынужденного, недобровольного сосуществования совершенно чуждых друг другу людей — таков материал, из которого складывалась драма совместного проживания миллионов советских граждан в течение будущих десятилетий, вплоть до распада Советского Союза. И драма эта имела свое многократно описанное и легко представимое «обонятельное измерение» 59.
Революционный режим не только воспринял «обонятельную революцию» как неизбежный побочный эффект социального переворота. Он явно поощрял ее, выдавал за некий новый код нового общества. Ведь существовали уже специфичный жаргон нового человека (Стивен Коткин назвал его большевистским) и специфичные формы обращения. А раз так, то должен был существовать и мир запахов, подобающий Новому Человеку. И в этом мире все формы изощренного благоухания отвергались как проявление буржуазной избалованности или даже разложения. И в первую очередь осуждению подверглись духи: их заклеймили позором как демонстрацию буржуазного образа жизни. Отныне запахи труда (в сущности, физического труда, связанного с затратами энергии, по́том и грязью) конфликтовали с ароматами праздности, изнеженности, декаданса. Духи могли сыграть столь же предательскую роль, как очки, выдававшие «гнилого» интеллигента, или «белые ручки» барышни-аристократки или мещанки-гимназистки. Духи становятся таким же опасным классовым признаком, как и одежда, если она не соответствует пролетарской моде на комсомольские рабочие комбинезоны и кожаные комиссарские пальто. Такова интимная связь парфюма и моды: у революционного класса свой аромат, у революционного пролетариата своя мода. Некоторое время миры запахов находились в состоянии непримиримой вражды. В переходный период, между распадом старого мира и возникновением нового, перекрывающие друг друга обонятельные сферы свидетельствовали о том, что классовый антагонизм никуда не делся.
Веригин говорит даже о «запахе умирающих классов» и о «запахе нового общества». «Благоуханность» как признак власти исчезает, уступая место тому, что прежде считалось маргинальным. На первый план выходит периферия. «Российской аристократии новое время принесло с собой запах смерти. Гнетущее зловоние трупов, сладковатый запах крови создали атмосферу, в которой существовало русское дворянство». И напротив: запах кожаных пальто и автомобилей, исходивший от представителей власти, от государственных и партийных функционеров, был признаком революционного общества и символом его государства. Свергнутый класс подвергается унижениям: отныне он должен выполнять ту грязную работу, которую до сих пор выполняли низшие классы. «Буржуазных элементов» отправляют на расчистку снега, уборку туалетов и вывоз мусора. Так случилось, например, с отцом Нины Берберовой, которого к тому же обязали надеть накрахмаленный воротничок.
Таким переходным периодом было время НЭПа (1921–1929). На черном рынке еще продавались остатки старых духов и сортов мыла, первые красавицы той эпохи — Лариса Рейснер, Александра Коллонтай, Нина Берберова — пользовались духами парижского или дореволюционного производства. Большевистская аристократка Александра Коллонтай, долгое время представлявшая Советский Союз в качестве посла в разных странах, предпочитала «Soir de Paris» фирмы «Буржуа» 60. Обладатели «красных паспортов» — дипломаты, журналисты, писатели — привозили из командировок в капстраны мыло и духи или модные заграничные журналы («Harper’s Bazaar», «Vogue»). Тогда еще связи с Западом не были прерваны окончательно. В названиях косметических средств еще слышится отзвук прошлого века: «Букет», «Аромат любви», «Весенние цветы», «Амброзия», «Белая роза», «Букет Татьяны», «Каприз Валерии», «Чайная роза», «Розовый бутон» или «Ай-Петри», «Мэри Пикфорд» или «Флора».