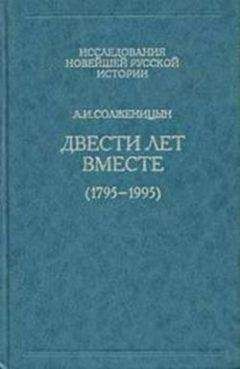Звери. История группы - Зверь Рома
Рефлексия и самокопание – это мощные штуки. Иногда так хочется пожалеть себя, поностальгировать. Очень хочется. Потому что никто же тебя не знает. В этом‐то и беда. Люди не знают друг друга, даже близкие, которые живут вместе много лет. Потому что мы редко можем позволить себе настолько открыться и говорить о вещах, которые тебя действительно тревожат. Все равно ты скрываешь их, носишь в себе. По разным причинам: может, жалко близкого человека, зачем грузить его еще и этим. Или страшно самому. Причин много, они разные, и по-настоящему только ты сам себя можешь пожалеть, но это опасно. Не надо этой лопатой слишком глубоко в себя рыть – не знаешь, что откопаешь. Поэтому я стараюсь не придавать такого большого значения рефлексии. Все не так серьезно, как кажется. В конечном счете это всего лишь твои мысли. Они не могут быть для других людей чем‐то серьезным и нужным. Никому это вообще не важно – может быть, даже тебе самому. Поэтому не надо слишком серьезно относиться к себе, своей миссии, значимости, своему месту в мире. Прям утрировано добавлять иронии, чуть лучше с перебором, только чтобы не умереть уж в этой своей серьезности.
Сергей Прокофьев писал в своих дневниках: «Жизнь не задевает меня глубоко, а скользит слегка по поверхности, я не мечтатель». Я легко могу себе это представить. У всех разный порог любви, чувствительности ко всему. Мечтать – это витать в облаках, а я предпочитаю делать. Видеть результат своего труда. Помимо волшебства у нас всегда есть реальный мир, который ты создаешь своими руками и мыслями, и, как по мне, это интереснее любой фантазии. Твоя работа круче, чем мечта. Ты сам можешь сотворить кучу мечт не только себе, но и другим людям. Зачем плугом зарываться, мол, эх, сейчас как взвалю на себя весь груз и с серьезной мордой пойду всем рассказывать, как я понял жизнь и судьбу. Все самые глупые дела делаются с серьезным лицом.
Интровертное одиночество всегда со мной. Это хоть и безысходное, но вполне позитивное чувство. Оно про жизнь, а не про смерть. Мы же никуда смерть не денем, хоть и не думаем о ней постоянно. Мы живем без ежесекундного понимания смерти, не отдаем себе в этом отчета, иначе от страха померли бы уже давно. Как только ты осознаешь, что есть вещи, на которые невозможно повлиять, хочешь или нет, они в любом случае произойдут, рано или поздно, это прибивает тебя. Но иногда это полезно осознавать, чтобы отталкиваться от чего‐то. Лет через тридцать-шестьдесят тебе придет конец, и ты не увидишь, что будет дальше. И что теперь с этим делать? Надо ли что‐то оставлять после себя, прогнозировать по времени, сколько осталось, чтобы успеть сделать что‐то важное? План на остаток жизни примерно понятен, а вот дальше – неизвестно что. Скорее всего, ничего. Ты уйдешь и уже не увидишь, что будет в этом мире без тебя, а оно будет точно. Ты должен либо смириться с этим и успокоиться, либо предпринять нечто такое, чтобы оставить после себя свет. В этом и есть смысл жизни человека. Мы ведь не знаем, будет ли нам все равно из того, другого мира, что тут о нас думают живые. А вдруг мы будем оттуда наблюдать за тем, как тут все осталось, но уже без права что‐то изменить? Вот в чем проблема смерти, так почему бы не подумать о ней? Надо как раз о ней думать, потому что у нас только две вещи, в которых можно не сомневаться, – это рождение и смерть. Единственное, что мы знаем о жизни наверняка, так это то, что после нее мы умираем. Всё. И делай что хочешь с этим! Есть у тебя временной отрезок, условно век, сто лет, больше нет. Крутись.
Вообще, есть ли жизнь после смерти или нет, мне не так важно. В любом случае для меня имеет значение, что останется здесь после меня. Я верю, что сознание существует, и мы не знаем, что происходит с ним после смерти. Сама мысль о том, что ты уже сейчас знаешь, что люди после твоей смерти будут помнить о тебе благодаря твоим делам, уже успокаивает. Ты становишься бессмертным, смерть тебя не пугает. Ты становишься спокойнее. А вот когда дальше ничего нет, тогда это очень страшно. Осознавать, что всё – выключат тебя, и наступит полное забвение. Вот это жопа, это страшное ощущение. А пока остается память о тебе, информация существует, и ты существуешь.
Я думаю, что главное наследие человека – это его творчество. Это чистый ты. Почему египтяне строили пирамиды? Они так побеждали смерть. Тебя давно нет, а тебя все еще помнят, о тебе говорят. Цифровое бессмертие с аватаркой сейчас каждый может себе создать, но это не то. Надо заслужить, чтобы тебя помнили люди из разных поколений, сквозь время. Мне важно, как меня будут вспоминать. Чтобы добрым словом вспоминали хоть иногда, нужно хорошее что‐то сделать. Колодец вырыть, школу построить. Я пока еще ничего, кроме песен, не оставил. Песни, конечно, полезны и нужны людям, больше скажу – мне самому без людей они были бы не нужны, в этом нет смысла. Чувство нужности сильно влияет на человека, на его возможность что‐то создавать. Поэтому да, творчество – главный след человека. Дети тоже, но это уже не совсем ты, это еще кто‐то. Они просто передают твою информацию дальше, и это тоже относится к твоему бессмертию.
Род
Мой дед однажды по пьяни своему соседу в голову топор всадил. Их дома напротив стояли, они сорок лет вместе закладывали за воротник, и тут мой дед психанул и метнул в него топором. Потом в СИЗО сидел год, а ему уже к семидесяти годам было. Товарищ выжил, написал: «Претензий не имею». Дед вышел на свободу, и они продолжили. Это был отец мамы, дедушка Боря. Двух немцев он еще вилами заколол, когда в оккупации Горловка была. Вот такой у меня сумасшедший дед был. Я его боялся до ужаса. Безумный, но прикольный. Не злой, но лютый прям – трех пальцев не было на одной руке. Он на лесопилке работал, потом составлял вагоны – в Горловке там железнодорожный узел, сортировочная станция. Уважаемый человек был мой дед, но очень взрывной.
«Эй, Ромка, иди вишню собирай!» – кричал мне. Два ведра вишни собрал – всё, неси на рынок, бабкам сдавай за три рубля. Бабки там сидели уже продавали вовсю. Приносили мы деду назад пустые ведра:
– Вот, дед!
– Молодцы! А деньги где?
– Вот деньги, дед!
– Ну всё, Ромка, молодец. Оставь себе.
Дед очень был справедливый и хороший, но просто с характером. Мог матом покрыть. «Ах ты подлюка!» – любимое слово у него было. И в телевизор бутылкой швырял, а там Горбачёв сидит. И вот моя мама в него, своего папу, темпераментом пошла. А я – в своего отца. Хотя у меня тоже мамино иногда приходит, но по прошествии времени я понимаю, что я больше в папу.
Отец тихий и спокойный мужик, лишнего словца не скажет, будет больше с рыбами общаться, чем с людьми. И я его прекрасно понимаю, потому что мама – это ураган, и ему было очень тяжело сойтись характерами с таким человеком. А я отца не трогал, понимал, что я и сам отчасти такой. Тоже могу закрыться, и не трогайте меня, пожалуйста. Хотя я могу быть и рыбой, и ураганом, все по силе и по месту. Если ты уже начинаешь грубить и это не к месту, надо искать помощь в себе или в близких. Но пока нет у меня таких перекосов серьезных.
Я не думал, все ли я правильно сделал в отношениях с отцом. Я просто что мог сделать – сделал. Хотелось отцу видеть свою жизнь – я помог ему, насколько смог, и не лез в его жизнь, что тоже, наверное, хорошо. Потому что моя мама очень лезла в жизнь отца, и тот в последние десять лет жизни просто сбежал от нее, хоть и развелся с ней сорок лет назад! Когда мне было семь лет, они уже не жили вместе. Потом я вырос, уехал в Москву, возвращаюсь в Таганрог: мама-папа, а они не видятся. И мама его все подбивала: «Ну давай уже вместе». А он: «Не-не, оставь меня в покое». И вот ему пришлось просто сбежать. Он уехал туда, куда хотел всю жизнь – на рыбалку. У меня ведь отец рыбак. Я люблю рыбалку, но не так, а он любил ее даже больше, чем семью, наверное. Ну, видимо, из-за проблем в его семье, с родителями, у него не получилось и свою сохранить.