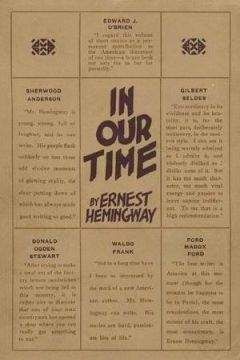Эрнест Хемингуэй - Старый газетчик пишет...
Лучше всех такие рестораны удавалось отыскивать Майку Уарду. Он знал и любил Париж больше других. Мы с Майком рыскали в поисках тайных ресторанчиков с хорошим, как правило пьяницей, поваром, двумя-тремя сортами доброго легкого вина и с хозяевами, едва сводившими концы с концами и готовыми в любой момент продать свое заведение или разориться. Нам не нужны были уединенные рестораны, которые начинали процветать и становились популярными. Именно так получалось с ресторанами, которые находил Чарли Суини. К тому времени, как он приглашал нас в свой ресторан, секрет становился столь широко известным, что приходилось подолгу ждать свободного столика.
Зато с тайными кафе у Чарли все обстояло благополучно, и здесь он соблюдал полнейшую секретность. Конечно же, это касалось только наших запасных, или, как мы их называли, полуденных и предвечерних кафе. В это время дня порой хотелось перекинуться с кем-нибудь двумя-тремя словами, и тогда я отправлялся в его запасное кафе или он в мое. Туда мы могли приходить с девушками. Девушки обязательно где-то работали, иначе их считали легкомысленными. Только дураки имели постоянных девушек. Днем девушка была ни к чему, так же как ни к чему были все ее проблемы. Если же она хотела быть твоей, она непременно должна была работать, и тогда все ночи принадлежали ей. Вот когда она была по-настоящему нужна, и ты водил ее вечерами в разные ресторанчики и дарил ей всевозможные вещицы. Я никогда не пытался хвастать своими подружками перед Чарли, у которого всегда были красивые, послушные и прекрасно воспитанные девушки, и все они обязательно работали. В то время моей девушкой была моя консьержка. Это была первая молодая консьержка в моей жизни, и приключение казалось мне очень волнующим. Главное ее достоинство было в том, что она все время работала и не могла выходить не только в общество, но и вообще никуда. Когда мы с ней познакомились, она была влюблена в кавалериста из Garde republicaine[69] — этакого украшенного плюмажем из конского хвоста усача со знаками офицерского различия на груди, казарма которого находилась неподалеку от нашего дома. Он дежурил всегда в одно и то же время и вообще был красавцем мужчиной, и при встрече мы обращались друг к другу не иначе как по всей форме: «Monsieur».
Я не был влюблен в свою консьержку, но в ту пору ночами чувствовал себя очень одиноко, и, когда она впервые поднялась по лестнице, открыла мою дверь, в которой торчал ключ, и проскрипела по ступенькам, ведущим на мой чердак, где возле окна с очаровательным видом на Монпарнасское кладбище стояла моя кровать, а затем сняла войлочные туфли, легла рядом и спросила, люблю ли я ее, я преданно ответил: «Конечно!»
— Я знала, — сказала она, — я так давно знала это.
Она сказала, что никогда не смогла бы по-настоящему полюбить кавалериста из Garde republicaine. Я ответил, что считаю месье симпатичным человеком, un brave homme et tres gentil,[70] и что, должно быть, он здорово смотрится верхом на лошади. Но она возразила, сказав, что она не лошадь, и к тому же с ним было много хлопот.
Итак, пока они говорили о Лондоне, я вспоминал Париж и думал, что все мы росли по-разному, и это счастье, что нам удается ладить друг с другом, и я хотел бы, чтобы С.Д. не было одиноко по ночам, и что мне дьявольски повезло с женой, и что я исправлюсь и постараюсь быть хорошим мужем.
— Вы ужасно молчаливы сегодня, генерал, — сказал С.Д. — Мы нагоняем на вас тоску?
— С молодыми не бывает скучно. Мне нравится их беззаботная болтовня. Забываешь, что стар и никому не нужен.
— Чушь, — сказал С.Д. — О чем это вы думали с таким псевдоглубокомысленным видом? Философствуете или гадаете о завтрашнем дне?
— Когда я стану гадать о завтрашнем дне, в моей палатке всю ночь будет гореть свет.
— Снова химера, генерал, — сказал С.Д.
— Не нужно грубых слов, С.Д., — сказала Мэри. — Мой муж деликатный и легкоранимый человек. Они вызывают у него отвращение.
— Рад, что хоть это вызывает у него отвращение, — сказал С.Д. — Есть, значит, положительная черта в его характере.
— Он тщательно скрывает ее. О чем ты думал, дорогой?
— О кавалеристе из Garde republicaine.
— Видите, — сказал С.Д., — я всегда говорил — есть в нем нечто возвышенное. И проявляется весьма неожиданно. Что-то от Пруста. Скажите, этот кавалерист был очень привлекателен? Хочу расширить свой кругозор.
— Папа и Пруст жили в одной гостинице, — сказала мисс Мэри. — Но Папа почему-то утверждает, что в разное время.
— Бог его знает, как оно было на самом деле, — сказал С.Д. Сегодня вечером он был вполне счастлив и раскован, и Мэри с ее восхитительной способностью все забывать тоже выглядела счастливой и беззаботной. Она могла неожиданно поссориться со мной, но через пару дней совершенно искренне забыть обо всем. Она обладала избирательной памятью, которая, правда, далеко не всегда срабатывала в ее пользу. Память прощала ее, а заодно и меня. Она была ужасно чудной, и я очень любил ее. В данный момент я находил у нее только два недостатка. Она была слишком хрупкой для настоящей охоты на львов и имела слишком доброе сердце, чтобы убивать, и вот почему, решил я, стреляя в животное, она либо вздрагивала, либо излишне поспешно спускала курок. Я находил это очаровательным и никогда не злился. Зато злилась она, потому что умом понимала, почему мы должны были убивать, и позднее даже вошла во вкус, решив, что никогда не поднимет руки на таких прекрасных животных, как импалу, а будет убивать лишь отвратительных и опасных зверей. За шесть месяцев непрерывной охоты она научилась любить этот спорт, постыдный по своей сути, но достойный, если заниматься им честно, и все же ее сердце помимо воли заставляло Мэри стрелять мимо цели. Я любил ее за это, и это так же верно, как и то, что я никогда не полюбил бы женщину, которая могла работать на бойне, умерщвлять заболевших кошек и собак или убивать лошадей, которые сломали ногу на скачках.
— Как звали кавалериста? — спросил С.Д. — Альберт?
— Нет. Месье.
— Он хочет сбить нас с толку, мисс Мэри, — сказал С.Д.
Они вернулись к разговору о Лондоне. И я тоже стал думать о Лондоне, и город больше не казался мне неприятным, разве что уж очень шумным и необычным. Я понял, что совершенно не знаю Лондона, и снова стал думать о Париже, но еще обстоятельнее, чем прежде. В действительности же меня, равно как и С.Д., беспокоил лев мисс Мэри, просто мы по-разному старались отвлечься.
Ночью я несколько раз слышал рев льва. Я уже засыпал, когда Муэнди потянул за одеяло на моей койке.
— Чай, бвана.
Снаружи была кромешная тьма, но кто-то разводил костер. Я разбудил Мэри и предложил ей чаю, но она неважно себя чувствовала. Ее мучили колики.
— Если хочешь, мы все отменим, дорогая.
— Нет. Мне скверно, но, может быть, после чая станет получше.
— Можно промыть желудок. А лев пусть отдохнет еще денек.
— Нет. Я пойду. Попробую взять себя в руки и быть молодцом.
Я вышел, умылся холодной водой из кувшина, промыл глаза борной кислотой, оделся и сел у костра. С.Д. брился возле своей палатки. Потом он оделся и подошел ко мне.
— Мэри совсем худо.
— Бедный ребенок.
— Она все равно хочет идти.
— Понятно.
— Как спалось?
— Хорошо. А тебе?
— Очень хорошо. Что, по-твоему, он делал ночью?
— По-моему, он просто расхаживал взад-вперед и громко ворчал.
— Он очень разговорчив.
— Да.
Мы стали ждать Мэри. Она вышла из палатки, спустилась по тропинке к отхожему месту, вернулась и тут же снова пошла вниз.
— Как самочувствие, дорогая? — спросил я, когда она подошла к костру с чашкой чая в руке.
— Я совершенно разбита. Есть у нас какое-нибудь лекарство?
— Да. Но после него чувствуешь себя вялым… Ей явно нездоровилось, и я видел, что у нее начался новый приступ.
— Дорогая, подождем еще одно утро, пусть он отдохнет. Так будет даже лучше. Ты успокоишься и подлечишься. С.Д. может остаться с нами еще пару дней.
С.Д. отрицательно помахал рукой. Но Мэри ничего не заметила.
— Это твой лев, и ты не торопись, придешь в норму — тогда пойдем; чем дольше мы не будем его беспокоить, тем он будет увереннее. Сегодня утром нам лучше остаться в лагере…
Я подошел к машине и сказал, что все отменяется. Потом я нашел Кэйти, он сидел у костра. Похоже, он все понимал и был очень тактичен и вежлив.
— Мемсаиб заболела.
— Я знаю.
— Наверное, спагетти. А может быть, дизентерия?
— Нет, — сказал Кэйти. — Скорее, спагетти.
Чуть позже, когда лев по нашим расчетам уже должен был бросить приманку, если только он вообще клюнул на нее, мы с С.Д. отправились в его лендровере осматривать окрестности. Звери привыкли к лендроверу, и мы подумали, что лев, если и заметит нас, едва ли встревожится, как при виде знакомого силуэта охотничьей машины. Много лет назад я обнаружил, может быть ошибочно, что львы близоруки и различают только силуэты. Я проверил свою теорию и впоследствии, до того как Серенгети стал заповедником, на пари фотографировал диких львов с близкого расстояния и окончательно убедился в своей правоте. В ту пору я относился к львам без должного уважения, и Старик всегда находился поблизости на случай, если моя теория подведет. Теперь я знал и уважал львов гораздо больше, но мнения своего не изменил. Впрочем, С.Д. так или иначе хотел ехать на своем лендровере, и моя теория была ни при чем.