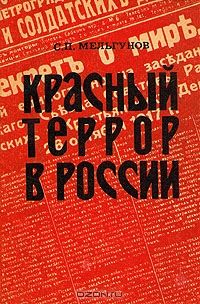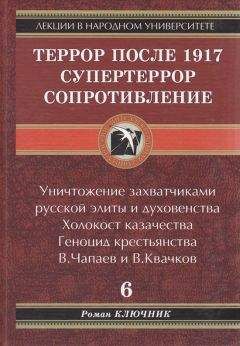Анна Гейфман - Революционный террор в России, 1894— 1917
Этот недостаток особенно ясно проступает при изучении благожелательного отношения к революционному терроризму и косвенного его поощрения со стороны кадетов, бывших духовно, если не на практике, частью объединенного антиправительственного фронта. До 1917 года российский либерализм не видел своих врагов в радикальном лагере и потому находился гораздо левее политического центра, как этот центр обозначился, например, в Западной Европе(5). Кадеты, способствуя радикализации политического процесса, должны рассматриваться скорее как революционеры, а не как либералы в общепринятом смысле этого слова. Трагедия русской политической жизни в том и заключалась, что в России не было настоящего либерального движения, которое могло бы занять место кадетов в центре политической арены, а также умерить революционные страсти и уверенно отстаивать законный порядок, основанный на современных юридических и законодательных нормах.
Имперское правительство, неспособное привлечь на свою сторону умеренных либералов или предоставить мирный выход политическим страстям для тех, кто вставал на путь терроризма, оказывалось вынужденным использовать грубую силу для разрешения ситуации. В 1905 году эта-то ситуация и вышла из-под контроля. Тем не менее даже прямые репрессии против революционеров привели лишь к частичным успехам, и традиционное мнение, что к концу 1907 года правительству удалось полностью восстановить спокойствие и порядок, не подтверждается фактами. Хотя и ослабленная, волна терроризма продолжала разливаться по Российской Империи до 1910 года. Да и в последующие годы, включая военные, когда самодельные бомбы больше не взрывались на улицах российских городов и правительственные чиновники не ожидали пули экстремистов из-за каждого угла, правительство все же не могло похвастаться окончательной победой над террористами, поскольку представители различных лево-радикальных организаций не отказались от террористической тактики и продолжали вынашивать планы возрождения террора до самой Февральской революции 1917 года.
Изучение терроризма в России позволяет оценить позицию царского правительства в ситуации постоянных попыток экстремистов поколебать основы государственного устройства. Пример России подтверждает, что террористические действия особенно распространены в таких обществах, где одним из выходов из сложившейся ситуации являются реформы и мирные перемены. «При режимах, могущих прибегать к неограниченному давлению и контролирующих использование средств массовой информации, случаи терроризма редки», и это помогает понять пассивность опытных российских террористов после октября 1917 года, не решавшихся бороться с большевистской диктатурой. В демократиях же, слабо авторитарных или относительно открытых обществах терроризм процветает(6).
Годами ученые спорили о том, привело ли противников самодержавного строя к террору само правительство, вставшее на путь политической реакции, или это террористы изменили курс правительства, готового к либерализации, на политически застойный и репрессивный. Оба подхода только частично правильны сами по себе, но они дополняют друг друга, и если уж искать виноватого, то придется обвинить обе стороны. Нет сомнений в том, что убийства и экспроприации спровоцировали правительственные репрессии; нет также сомнения и в том, что первые выстрелы террористов в начале XX века были показателем общего нездоровья российской политической жизни. И несмотря на то, что в течение всего первого десятилетия правительство видело в революционном терроризме свою главную проблему, самодержавие так и не смогло разглядеть, что вызвало и на что указывало это явление. Эта роковая ошибка привела к революции, которая смела традиционный порядок, боровшийся с симптомами опаснейшей болезни, а не с самой болезнью.
Радикализм последнего десятилетия российского самодержавия, временно ушедший в подполье, не был побежден, он выжил в большой степени из-за того, что «самодержавие своей политикой нерешительной беспощадности — либо слишком жесткими, либо недостаточными мерами — только вызывало недовольство общества, не избавляясь от оппозиции(4). Несмотря на короткий период временного примирения в начальной фазе первой мировой войны, глубокая пропасть между правительством и обществом — разрыв, который уже стал традиционным для России, — так и не исчезла. Российская революционная оппозиция, постоянно недовольная правительственными социально-экономическими, образовательными и военными реформами и нежеланием власти идти на политические уступки, ожидала лишь случая для открытого выступления. Как и в других странах, это создавало благоприятную почву для возрождения экстремизма и насилия.
При оценке последствий террора первых лет нашего века необходимо помнить, что этот феномен породил целое поколение новых революционеров — радикалов нового типа, — проливавших кровь с гораздо большей легкостью, чем их предшественники. В роковом 1917 году эта готовность к насилию оказалась очень полезной при уничтожении реальной и потенциальной оппозиции революции. Перед самым началом беспорядков в Петрограде Александр Керенский с трибуны V Государственной думы призывал к устранению царя террористическими методами (это же он предлагал и раньше — в 1905 году) (8). После большевистского переворота в октябре 1917 года многие практики террора использовали свой предыдущий опыт политических убийств и принуждения, демонстрируя своими действиями непрерывность традиции российского экстремизма.
После 1917 года многие бывшие террористы посвятили себя обывательским, далеким от политики занятиям. Ярким примером может служить Петр Рутенберг, организовавший в 1906 году убийство Гапона. Он уехал в Палестину и стал там преуспевающим промышленником, основав электрическую компанию(9). Другие, как, например, Вячеслав Малышев, остались в душе террористами. Малышев, бывший член Северного летучего боевого отряда ПСР, уехал в Иерусалим и стал монахом. В 1949 году, будучи уже архимандритом и настоятелем Никольской русской православной церкви в Тегеране, он написал своему бывшему партийному руководителю Чернову (жившему в Нью-Йорке) письмо, в котором сравнивал себя со старой боевой лошадью, услышавшей звук военной трубы, и предлагал вновь заняться «с Божьей помощью» прямыми политическими действиями против большевиков, может быть, через ирано-советскую границу(10). И тем не менее, за исключением нескольких изолированных покушений на жизнь советских лидеров, в том числе ранения Ленина в августе 1918 года, террористы, использовавшие политические убийства в борьбе с царизмом, не прибегали к этой тактике для борьбы со своими бывшими товарищами из экстремистской фракции РСДРП (частично потому, что не могли избавиться от чувства революционной солидарности). Наиболее заметным исключением был Борис Савинков, который так же рисковал своей жизнью в годы гражданской войны против большевиков, как раньше в борьбе с самодержавием.
С другой стороны, на удивление большое число террористов осталось в России после прихода к власти большевиков и участвовало в ленинской политике «красного террора». Многим профессиональным экстремистам, чьим главным занятием до 1917 года было «кровопускание», революция предоставила возможность вернуться из мест заключения или из-за границы и заняться привычным делом. Они шли на работу в органы государственного терроризма, такие, как губернские и областные отделения ЧК, руководимой в то время «железным Феликсом» — Дзержинским, которого, согласно имеющимся сведениям, за десять лет до этого лечили от психического заболевания, называемого «циркулярным психозом». Два его заместителя, Мартин Лацис и Михаил Кедров, в прошлом были замешаны в экстремистских действиях(11). Бывшие террористы также входили в революционные трибуналы, а после 1922 года работали в органах ГПУ (Государственное политическое управление). Большевики были не единственными бывшими террористами, проводившими политику советского красного террора. Другие социал-демократы, максималисты, левые эсеры и анархисты, по-прежнему считая всех революционеров частью общего фронта, охотно предлагали свои услуги советским репрессивным органам(12).
Советский режим был действительно наследником террористической патологии. Именно на Урале, где в 1905 году террористическая деятельность большевиков была особенно интенсивной, после 1917 года последователи Ленина смогли наиболее успешно сорганизовать свои старые боевые кадры(13). Нескольким боевикам, доказавшим свою верность и усердие во время большевистских экспроприации в регионе во время первой русской революции, теперь давались наиважнейшие для молодого советского руководства задания. А. Мясников, который заболел психической болезнью во время заключения в каторжной тюрьме (куда попал за свои боевые действия в 1905–1907 годах), в 1918 году стал членом ЧК и в июне того же года лично руководил убийством великого князя Михаила Александровича Романова(11). Бывший боевик Константин Мячин (В.В. Яковлев) сопровождал семью Николая II из Тобольска в Екатеринбург, где Романовы и были убиты по приказу Москвы(15). Петр Ермаков, тоже боевик времен первой русской революции, был одним из трех палачей, расстрелявших 16 июля 1918 года Николая II, его жену Александру, их пятерых детей, камердинера, повара, горничную и Евгения Боткина — семейного врача. Ермаков, фанатик-революционер, потом рассказывал, что он убил царицу, доктора Боткина и повара из собственного маузера(16). Сейчас точно установлено, что секретный приказ об убийстве императорской семьи в Екатеринбурге был отдан Лениным, главой Совнаркома, и Свердловым, председателем Центрального исполнительного комитета. Как мы знаем, при царском режиме Ленин был сторонником боевой деятельности большевиков, а Свердлов сам принимал в ней активное участие.