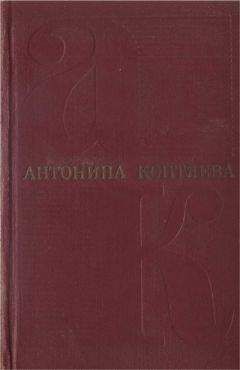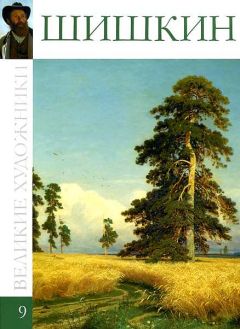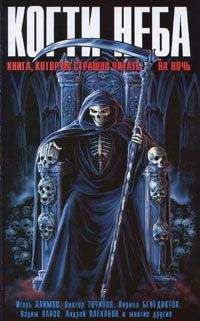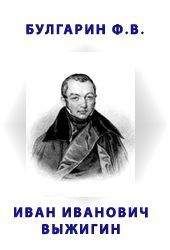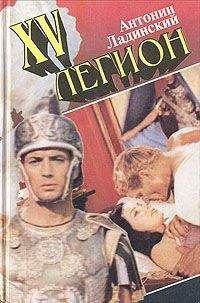Борис Рощин - Встречи
Виктор Михайлов так и не продал свой дом в Осиновке. Но разрешил нам с Горышиным жить в доме когда и сколько захочется и даже выделил отдельный ключ от дверного замка. Несколько лет мы пользуемся гостеприимством приветливого холмовчанина, бывая в Осиновке накоротке раза два-три в году.
ЗА ПЕСНЕЙ
В ту весну я уже думал, что глухаря слушать мы не пойдем. Весь апрель я работал в Комарове в Доме творчества. Горышин изредка наезжал туда на воскресенье с семьей отдохнуть. Год начался для него трудно и хмуро: ушло из жизни несколько близких ему людей, давно и тяжело болела мать, не писалось…
Он бродил по причесанному курортному лесу, спускался к заливу, ладил на прибрежном песке костерок из плавника и сучьев, сбитых морским ветром с сосен. Подолгу смотрел на огонь, на залив, молчал. Потом и вовсе пропал, не появлялся.
Кончился апрель, минули первомайские праздники, пора было расставаться со своей писательской кельей в Комарове, собираться домой в Лугу. И вдруг звонок, в телефонной трубке глухой медлительный голос Глеба: «Боря, послушаем глухаря?»
Через час я был у него в Ленинграде. Горышин встретил меня с рюкзаком за плечами, из которого торчало зачехленное ружье. В руках у него была авоська с апельсинами. «Заедем к матери», — сказал Глеб.
У матери Горышин пробыл недолго, я ждал его в машине. Он вышел из дома матери с серым, постаревшим лицом. Сел за руль, сложил на баранке громадные свои лапищи и словно забыл, зачем сел.
— Куда поедем? — спросил я.
— В Новгородчину.
Тогда я не знал еще, что Новгородчина — родина его матери, а он не знал, что видел мать живой в последний раз.
За три часа мы домчались до Луги. По старой армейской привычке походный рюкзак мой, как в свое время «тревожный» чемодан, всегда собран, и на сборы в любой уголок Союза мне требуется не более десяти — пятнадцати минут. Вот только ружья у меня нет и никогда не было, хотя стреляю я не хуже Горышина. Умение осталось с той еще поры, когда очень важным казалось быть первым — в стрельбе ли, в борьбе ли, в иных молодецких забавах.
Хорошее это дело, машина. Быстро, удобно, никаких дорожных хлопот. Раньше на путь от Ленинграда до Холма через Лугу мы тратили неделю: поезд, автобус, катер, попутки, пеший ход. Теперь же на весь тысячекилометровый колесный путь затрачиваем сутки, на ходьбу до тока — тоже сутки. Но автомобиль, как и всякий комфорт, имеет и свои отрицательные стороны. Езда в индивидуальном автомобиле никогда не порождает той душевной близости и полного взаимопонимания, какое возникает, например, в кузове попутного грузовика. Трясешься ночью под брезентом мокрый, усталый, на ухабах лоб в лоб с приятелем сталкиваешься: и так тебе хорошо, что едешь, а не пешком идешь, что шофера-водителя, подобравшего нас на глухой лесной дороге, обнять хочется. И разговор под брезентом всегда самый искренний, и анекдот самый сочный, и любой юмор на душу ложится…
Конечно же, чтобы поохотиться на глухаря или песню этой древней птицы послушать, не обязательно в другую область за тысячу километров тащиться. Глухариные тока и в нашем Лужском районе пока еще, слава богу, не перевелись. Подчеркиваю: пока! Свыше пятидесяти глухариных токов сейчас в нашем районе, но количество глухарей на них только за последние семь лет снизилось почти вдвое. Главная причина этого не в браконьерах и тем паче не в охотниках, хотя и они свою лепту вносят. Глухарь — птица осторожная, любит глухие, безлюдные места. А где сейчас найти глухое, безлюдное место в районе, до которого от Ленинграда два часа на электричке? Вот и приходится глухарям покидать свои извечные места токовищ. А поскольку птица эта в своих привязанностях консервативная, то, если вырубили люди участок леса, где токовала она и ее предки, к новым местам глухари уже привыкнуть не могут. Сейчас в районе нашем все больше и больше охотничьих угодий под заказники отходит, где охота на глухарей запрещена. Ленинградский областной Совет народных депутатов еще в 1968 году решение вынес, по которому запрещена рубка и подсечка леса в местах глухариных токов, но… Технический прогресс — процесс неотвратимый. Строятся новые поселки и дороги, окультуриваются земли, вырубаются леса. В 1974 году в Лужском районе насчитывалось 2130 глухарей, в 1980 году — 1460. Если снижение поголовья этой древней птицы будет продолжаться такими же темпами, глухарям осталось петь в лужских лесах совсем недолго. Самое бы время, казалось, охотникам подсобить птице, начисто отказаться от охоты на нее, ан нет! Бьют глухаря всласть. Охотники — по лицензиям, браконьеры — без лицензий. Да вон они, охотники, легки на помине!
Мы ехали по шоссе Луга — Новгород. Шоссе это проложено в лесах сравнительно недавно и по-современному — минуя населенные пункты. Тихое шоссе, маломашинное, малолюдное. Но сейчас повсюду на обочинах стояли легковые машины, а рядом — люди с ружьями в руках. Некоторые охотники сидели в машинах, приоткрыв дверцы, держа ружья на коленях, слышалась музыка. Впереди грохнул выстрел, за ним дуплетом еще и еще, потом на шоссе выкатилась черная лохматая собачонка, и Горышин, резко крутанув руль, едва увернулся от нее.
— На кого они охотятся, — спросил я, — на уток, что ли?
— На вальдшнепа, — пояснил Глеб, — на вечерней тяге стоят.
До самого Новгорода — почти девяносто километров — стояли машины на вечерней вальдшнеповой тяге.
— Жуткое дело такая охота, — проговорил Горышин.
— Жуткое.
В «лесных» повестях, рассказах и очерках Глеба Горышина немало метких (авторских) выстрелов, набитой дичи, пойманной рыбы. Может быть, может быть… Во времена его юности. Когда, как пишет Горышин в предисловии к своей книге «Запонь», «ушлые лодейнопольские мужички добывали за весну на токах столько глухарей, что солили их в бочках. В Карелии колхозники сдавали глухарей в счет мясопоставки — килограмм глухарятины за два говядины…»
Над рабочим столом Горышина висит на стене фотография, на которой запечатлен Горышин-охотник с убитым глухарем в руках. Фотоснимок этот Глеб выполнил самолично — с автоспуска. Фотография получилась на редкость интересной, я бы даже назвал ее художественным автофотопортретом писателя. Автофотопортрет этот, на мой взгляд, символичен. Он олицетворяет собой сегодняшние «лесные» заботы и тревоги Горышина-писателя.
На снимке — уголок глухой лесной чащобы. Замшелые пни-кочки плавают в легком предутреннем туманце, старые поваленные деревья прикрылись густым покрывалом из сучьев, литые стволы корабельных сосен тянутся к небу, и сквозь кроны их пробиваются первые солнечные лучи. В центре этого лесного дива стоит высокий простоволосый человек в болотных сапогах с бывалыми мушкетерскими отворотами. На груди человека висит ружье, в руках он держит мертвую птицу и внимательно рассматривает ее. Головка птицы, увенчанная крошечной зубчатой короной, свисает с его ладони, черное крыло веером сбегает по голенищу до самой земли. Поначалу кажется, что охотник просто-напросто любуется своим трофеем. Но нет, у человека на снимке отсутствует поза удачливого охотника, человек задумался, он словно бы забыл, что стоит под объективом фотоаппарата. Во всем его обличье нет еще откровенного сожаления о содеянном, но нет уже и радости от убийства.
Человек на снимке опустил голову. Сосны отшатнулись от него, туман выскользнул из-под ног, и даже солнечные лучи сторонятся его, а тянутся к птице, словно пытаясь поддержать ее крыло, приподнять. Каждый сук, травинка, замшелый коряжистый пень осуждающе смотрят на человека и как бы спрашивают: «Зачем ты это сделал, человек? Ради чего лишаешь красы и жизни природу, обкрадываешь себя? Миллионы вас, людей, никогда не видели и не слышали нашей доброй красавицы певуньи, не наблюдали ее брачных танцев, ее бойцовских турниров. Ради чего ты убил ее? Ради сомнительной радости охотничьего азарта или ради малого куска птичьего мяса? Разве насытишь ты им свою утробу? Почему ты так безжалостен к нам, человек? Почему ты так глуп?!»
Человек на снимке безмолвен. Он стоит среди природы чужой и черный, как высокий обгоревший пень. Только на груди его, на курках ружья — крест солнечного блика. Солнечное светило ставит крест на его оружии, запрещает человеку вход с ним в природу, угрожает ему чернотой.
Удивительный снимок! Я всегда вспоминаю его, когда вижу Горышина с ружьем или читаю его «лесные» книги. За годы, что бродим мы с ним по лесам и болотам, мне еще не довелось увидеть, чтобы он кого-нибудь убил или поймал. По крайней мере, за последние десять лет (утверждаю смело) ни капли птичьей или звериной крови на его совести нет. Когда же я предлагаю ему в напарники знающего заядлого охотника, он хмуро буркает: «Я не люблю заядлых охотников».