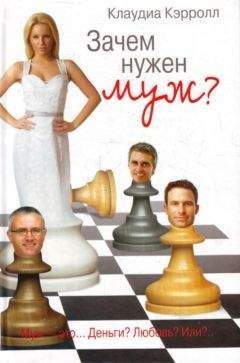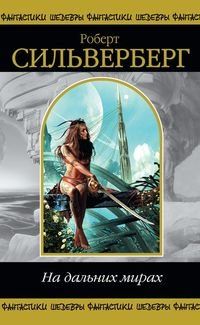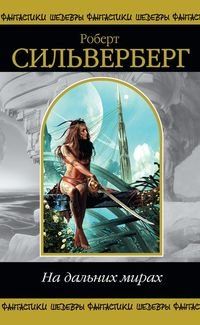Лев Аннинский - Красный век. Эпоха и ее поэты. В 2 книгах
Так в каком же все-таки соотношении клюевский сирота-нищий находится с той "бабой", которая изображена в "Поддонном псалме"? При всем этом маскараде — каков истинный облик лирического героя?
Я… ликом скрытен.
Вот это уже очень близко к истине. И это чуют завсегдатаи салонов, когда уличают Клюева в притворстве, и кличут "Опереточным Лелем". Они правы: он действительно меняет костюмы и маски: таится, хитрит, лукавит. Но они ошибаются в истоке этой потаенности.
Это не агрессия "мужика", пришедшего свести счеты с "господами". Это не апломб "правдолюба", режущего правду-матку. Это не издевка елейного святоши, морочащего дуракам головы.
Это — мучительное состояние человека, который не может найти себе места. Ни в лесном углу. Ни в проклятом городе. Ни вообще в мироздании.
Та кустодиевская "баба", "Русская Венера", которую нарисовал в своем воображении Клюев, вполне подошла бы для жизни в реальной избе. Да избы-то реальной — нет.
Изба в сущности — не жилище, хотя Клюев и хочет уверить в этом себя и нас. Изба — "святилище". Изба — начало и конец "света". Изба — "подобие Вселенной".
Вернее, это центр Вселенной. "В ней шолом — небеса, полати — Млечный путь". И далее по горизонту, то есть "по стенам": "Индийская земля, Египет, Палестина…"
Откуда все это в Олонецкой чащобе?
А откуда в ней — "райских кринов аромат"? (крины — лилии: Клюева надо читать со словарем). Откуда царь Давид? Магдалина, лобызающая ноги Христа? Иона во чреве кита? Саваоф, Ной, Елеон, Синай?
Это — "вечных библий развернутые листы", — объясняет Клюев.
А Гамаюн, Сирин, Еруслан, Горыныч? "Вольга с Мамелфой старой"? А это из старых же книг соловецкого извода. И такой же книжной вязью выведено: "Митрий Солунский, с Миколою Влас святых обряжают в камлот и атлас, креститель Иван с ендовой расписной их поит живой иорданской водой!.." (лезем в словарь: камлот — ткань, ендова — сосуд).
От Иордана — дальше, дальше. Индия во всех подробностях! А это откуда? А из Индикоплова. Из "хроник", коими обложено Евангелие у старых книжников. Это вовсе не та реальная Индия, в которую за три моря хаживал Афанасий Никитин, — это Индия грез и сказаний, царство воображаемой духовной благодати, и именно она, эта "Белая Индия", помещена в "красный угол" клюевской вселенской Избы.
А ведь поэтически — огромный эффект! Сидя на печи в вытегорском углу — пересчитывать "песчинки по Сахарам". Сказка! Сплошная, сквозная, нескончаемая сказка. В сущности — мечта постмодернистов! "Песнопевцу в буквенное брюхо низвергают воды Ганг и Кама".
С приходом Советской власти в этот поток вливаются новые струи. "Как гость в зырянское зимовье приходит пестрый Эрзерум". Раджа на слоне въезжает прямо в "овин". "Египет" цветет "в снежном городишке". "Хвойный Арарат" высится среди родной "гари и копоти". "Ферганский базар" шумит "под сенью карельских погостов”. "О нумидийской знойной славе гремит пурговая труба". Кружатся "вятич в тюрбане" с "поморкой в тунисской чадре". "Серый Парагвай" обнаруживается в этом колхозе. Мелькает "панама бура". Рядом — "тюрбан Магомета". Звенит "чеченская зурна"… Пляшет "Россия в багдадском монисто с бедуинским изломом бровей".
Россия?.. А может, "то, чему названья нет"?
Густая, непродышливая ткань клюевского стиха, конечно, уникальна. Но — не случайна в культурном воздухе начала века. Русская стилизация — одно из главных поветрий, и у Клюева предсказано многое: от Ремизова до некоторых версий раннесоветской орнаментальной прозы. И "логарифмирование" смыслов: там, где у Клюева строка, — Клычков и Орешин вырастили бы по целой поэме; это тоже в духе тогдашней поэзии: так же "логарифмирует" смыслы Хлебников.
Тайна — в том, ЧТО побуждает к такому чернению текста.
Побуждает — угроза со стороны реальности, от которой нужно любыми средствами оградить теплую точку жилья. Поэтому Изба у Клюева шифруется, она становится "непонятной", уходит в сокрыть. Смысл стилизации — само ограждение в таинственность, само замыкание в тайну. Это ДОЛЖНО быть "непонятно":
Сучит оборы жаровый пень,
И ткет онучи чернавка-тень,
Рассвет кудрявич, лихой мигач,
В лесной опушке жует калач.
Из чего калач, не разберешь, но — "жует".
Чтоб помолиться лику ив,
Послушать пташек-клирошанок
И, брашен солнечных вкусив,
Набрать младенческих волвянок…
Рецепт таинствен, но — варится.
А уж бабы на Заозерье —
Крутозады, титьки — как пни,
Все Мемелфы, Груни, Лукерьи
По веретнам считают дни…
Что сварят эти "бабы"?
Мы уже знаем: "банановую похлебку".
Остается понять: отчего нужда в такой алхимии.
Итак, вот картина мироздания. Изба — малый круг, душегрейная точка. По горизонту — хоровод видений, большой круг, "Белая Индия", фреска.
Суть в том, чем заполняется пространство между малым кругом и большим. Соотношение между Домом и Миром, сама эта "вселенская модель", сама невозможность прожить только Домом — тема, характерная для поэзии Серебряного века, да, пожалуй, и для русской поэзии в целом, а может быть, и для великой поэзии вообще. У Мандельштама — не "фреска", но таинственная европейская "карта". У Пастернака — "двор", заминированный "тысячелетьем". У Маяковского мир — простой, "как мычание", но это непременно весь мир, да и простота окутана "облаком".
Я несколько сдвигаю образы Маяковского с тем, чтобы понять, что именно видит у него Клюев:
Простой, как мычание,
и облаком в штанах казинетовых
Не станет Россия — так вещает Изба…
Изба вещает, предвещает, завещает — покой. У Маяковского мир рушится и возрождается — у Клюева стоит. У Пастернака тысячелетия идут — у Клюева застыли. У Мандельштама карта мира меняется — у Клюева не меняется ничего. Мир "недвижим". Ни намека на роковой ахматовский "бег времени". Ни намека на блоковский ветер. И никакого блоковского метания от надежды к отчаянию и опять к надежде. Склеено намертво:
Есть моря черноводнее вара,
Липче смол и трескового клея
И недвижней стопы Саваофа:
От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной,
Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в черные воды —
В те моря без теченья и ряби;
Бьется тело воздушное в черни,
Словно в ивовой верше лососка…
Плен. Замкнутое пространство. По горизонту — миражи; внизу — безвидная мгла, стоячая чернь небытия, и в центре этого замершего зябкого мира, как в пустоте — маленькая теплая точка. Изба.
Чем заполнить пустоту?
Нечем.
Точка и горизонт, остальное — пустынь. Там, где могли бы осмыслиться структуры: государственные, социальные, религиозные — "глухая нетовщина".
"Нет" — державе. Ненавистны царская власть, барская культура, дворянское "вездесущие".
"Нет" — городу. Проклят Вавилон, "где щетина труб с острогами застит росные просторы".
"Нет" — церкви. Ненавистен "казенный бог", "пещь Ваалова" — церковь. "Не считаю себя православным, да и никем не считаю".
Последнее признание — все тому же Блоку: в письме. В анкетах, вступая в большевистскую партию (в 1918 году в Вытегре), Клюев наверное формулирует свои убеждения аккуратнее. В партию его принимают. Пока речь идет о ненависти к казенному богу или, скажем, к генералу Юденичу, наступающему на Петроград, сотрудничество Клюева с советской властью идет вполне сносно. Всероссийски известный поэт клянет "черных белогвардейцев", оплевавших "Красного бога", и "задушевным братским словом" напутствует идущих на фронт бойцов. Однако вытегорские коммунисты интересуются, почему в стихах товарища Клюева так много религиозных символов. Товарищ Клюев объясняется на этот счет столь путано и многословно, что уездная партконференция в 1920 году предлагает ему пересмотреть свое мировоззрение. До клюевского "голгофского христианства" губкому партии, естественно, дела нет, как и до клюевских мыслей насчет того, что "в учении Христа есть общее с идеей коммунизма": губком справедливо подозревает, что все эти сказки "находятся в полном противоречии с материалистической идеологией партии", по каковой причине партия из своих рядов Клюева вскоре и вычищает.