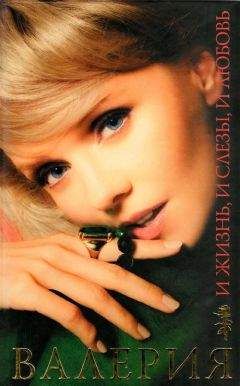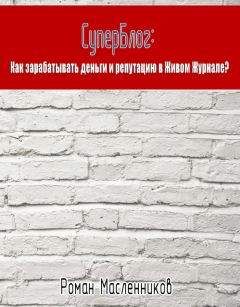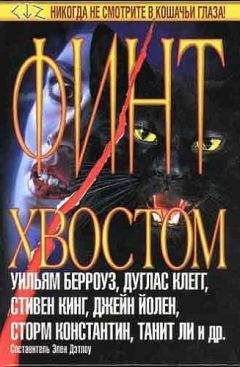Валерия Пустовая - Матрица бунта
Капитану непонятны подлинность, непереступимость любовного чувства в герое. Любовь, как и смерть, эти «основные источники эмоций, которыми питается подселенная в нас душа», как и сама душа, — как все, что делает человека уязвимым, предельным и зависимым, — как все, что делает человека человеком, — давно преодолены им. «Я <…> достиг состояния максимальной реализации и теперь, собственно, уже не являюсь человеком в том смысле слова, который подразумевает… м-м-м… колеблющуюся индивидуальность. Я — трансцендентный человек. <…> Я уже оставил позади все состояния человеческого уровня существования и, можно сказать, умер. Следовательно, освободился и от свойственных всем этим состояниям специфических предрассудков и ограничений». Беспредельный, потусторонний, трансцендентный человек, каким стал Капитан, получает в романе точное название «запредельщик». Капитан, «как настоящий запредельщик, отделавшийся от пустяковых предрассудков и ограничений, находился по ту сторону добра и худа». Образ запредельщика, переступившего через человечность как жалкость, через человеколюбие как слабость, через смирение как помеху, — красив. Той особенной красотой, которой, как следует из пространного и воодушевленного размышления героя, наделены его любимцы-жуки. «Они ведь не страшные, а красивые. Пусть и наделены не человеческой красотой». Совершенный Капитан, избавившийся от жалкости и зависимости, переступивший через боль и любовь, изящный в речах и в убийстве, убедительный в духоподъемности и богохульстве, «титан, атлант, держащий небо, царь зверей», — это техничное, ядовитое, стремительное, совершенное насекомое — притязающее на «статус подлинного человека».
Пафос человечности героя в романе подавлен титаническими притязаниями Капитана. России, данной в благовествовании от запредельщика, вызванной к жизни одной этой запредельной безбожной волей, угрожает перспектива самой стать оплотом запредельности. Империей сверхчеловечного, страной титанических идеалов, в которой надрыв сверхсостояний, преодоления слабости, бесчеловечного совершенства станет целью и оправданием жизни. Вот и Капитан, не знающий себе предела, мучимый своей безграничностью и тем, что нет ничего на свете, что не стало бы ему, запредельному и совершенному, покорно, — излагает властительные метания своего духа. «Построить мощную державу, великую континентальную империю» «со столицей в Петербурге» — «или возведем себе новую столицу — на таких топях, на которых может устоять только мечта». Акты воли Капитана достигают той же бессодержательности, что и арт-провокации его прошлой ипостаси — Сергея Курехина. Но если тогда это было бескорыстием, свободой от обязательств перед конкретикой, то теперь это пустота бескрайности, стяжательство мечты, ненасытимость воли, которая подменила собой мир и больше не чувствует никакой объективной данности, которая могла бы остановить ее и тем дать утоление. Запредельщик, преодолевший любовь, и смерть, и грех, и сокрушение, становится зависимым от самой своей беспредельности, подсаживается на власть и совершенство. Капитан, как и его наставник через века Патрокл Огранщик, суть проклятый, Агасфер, у которого нет предела — как нет дома, нет реальности — как нет смерти и нет Бога — как нет себя.
В рамках пророческого сюжета романы Крусанова и Левитина так же взаимно относительны, как Вавилонская башня и американская дырка — образы, зеркально направленные, но стремящиеся отобразить один и тот же миф. Левитин, как и Крусанов, рассказывает нам притчу о том, как в неразберихе исторической вьюги показался венчик спасителя. Только развивает этот сюжет в обратную сторону, как если бы писал тот же самый роман — с конца.
Крусановский роман строился на розыгрыше — левитинский «Поганец Бах» появился из ослышки. «Бах — великий музыкант. Он сочинил лучшие произведения для органа. Но в это лето мой слух так устал, что вместо “органист” я услышал по радио — “поганец”. Поганец Бах». Название романа — клоунадный вариант богохульства. Недаром и произносит эти слова маг Пирумов, ревнуя к незыблемости чужого авторитета. Название задает тон пустого дерзновения, посягновения на святое — это смешавшийся голос самого катастрофичного, оккультного, последнего времени. Эпохи ослышек, оступок, обознанок, когда так легко придумать заново хоть целую страну — и при этом не угадать самого себя. Великое и смешное, гордыня и жалкость, правда и морок следуют в романе шаг в шаг по туго натянутому тросу сюжета, предлагая нам угадать, кто свалится, а кому суждено удержаться. Но в финале трос лопнет…
Нерв романа — переменчивое напряжение поля власти, которое взаимно привязывает друг к другу мага Пирумова и его учеников. В повести Маканина это называлось «тяга». Маканинская повесть, исполненная материальности социальной драмы и весомости легенды, конкретнее выражает идеи, которые у Левитина театрально верткие, как бы смазанные в движении. История учительства знахаря Якушкина может вполне служить символической и понятийной базой для толкования того же сюжета в написанных позднее произведениях других авторов.
Конечно, «якушкинцы» и их «полубог» — это маканинские прообразы нерефлексивной массы и последнего интеллектуала, это социум и выпавший из системы. От мифотворного конфликта поэта и толпы пророческому сюжету, таким образом, никуда не деться. Поэтому даже сомнительный проповедник, самопровозглашенный гордец, лжепророк в рамках нашей темы всегда выше тех, кто не дерзнул на высказывание личной правды, не посягнул стать «Бахом». Красив и приглашает к подражанию Капитан Крусанова, ощутимо превосходит среднего человека эпохи Пророк Мейлахса, блещет силой и независимостью левитинский «маг». Если обозначить суть несовпадения пророка и паствы при помощи маканинской терминологии метко пущенных смешков, то выявится, что ученики пророка — это «тихие».
В повести Маканина «тихие» — почти постоянный эпитет последователей Якушкина. Невинное это слово от настойчивого повтора приобретает сперва уничижительность, потом вкрадчивость, набирает угрозы и в итоге становится меткой преступности. Такое же превращение переживает образ пирумовской паствы в романе Левитина. Пророческий сюжет здесь начинается с того, что едва удерживается от буквализации пасторальной аллегории пастуха и стада. «Двадцать вполне респектабельных людей» раскормленными овцами, поднятыми и сбитыми в кучу звуком магического рожка, блеют о муке своей агнцевой кротости. «Им показалось, что возможно чудо, они доверились», «г-н Пирумов уверенно вторгся в их жизнь <…> он держал их за горло» — «в какую же пропасть швырнул их этот малознакомый г-н Пирумов!». Их представления о силе и учительской власти Пирумова заранее наделяют его сверхчеловеческими, чудотворными свойствами, так что дальнейшее их общение с ним проходит в тоне невысказанного упрека: учитель небрежен с дарами их доверия, крут и непоследователен. Пирумов отрывает их от мануфактур и молодых жен, оставляет одних разбираться с чекистским патрулем в остановленном на полпути поезде, вынуждает исполнять балет перед офицерами и топать за его телегой, требует отдать драгоценности и вымыть лошадей, отказаться от веры и распродать на базаре мотки ниток. Автор подвергает веру пирумовцев все более абсурдным испытаниям, постоянно возвращая их к вопросу: «Зачем им это было нужно?». Но они даже в объяснении импульса своей веры уповают на своего учителя, измену видя в том, что он никак не оправдает их же собственного решения за ним последовать.
Между тем Пирумов вовсе не намеревался мотивировать их покорность. Он взрывает их обывательский идеал окупаемой жизни, его вероломство — это наставление в свободе. Пирумов не соблазнитель, каким хотят представить его последователи, а провокатор. Не снимающий вину — а налагающий ее, не обездвиживающий, а подталкивающий к поступку. Пирумов сбрасывает с себя ярмо взаимности для того, чтобы они уяснили: их жизнь определена не его властью, а их же доброй, то есть бескорыстной, волей. Это в точности соответствует методу лечения знахаря Якушкина, который начинал и заканчивал курс тем, что обращал больного к нему самому: заставляя вспоминать все проступки и злоумышления до сеанса и оставляя в строгом одиночестве покаяния после. Учитель — только повод к самопознанию, знахарь — ориентир в самолечении. Жалобы овец на деспотизм завладевшей ими воли абсурдны: из привычного хода жизни их вытолкнула не чужая рука, а собственный порыв к правде и чуду, который в их учителе или знахаре только олицетворен.
Но соблазн утопающего — камнем привязаться к ногам спасателя. На рефренный вопрос Левитина: «Зачем им это было нужно?» — Мейлахс, в духе своей книги, дает четкий до формульности ответ: «Сильным и смелым не нужны пророки». «Тихие» последователи противопоставлены ведущему их учителю как носители ослабленного личностного начала. Учитель и впрямь громок — своей решимостью, убежденностью, дерзновенностью. Четкостью своего «я», которое пусть и грешно, лукаво, но проявляет себя. Учитель — это ветер, чье мощное дуновение от невозможности не дуть, не прокладывать себе путь в бесконечный простор. «Так могли бы управлять тобой ветер, тайфун, пустыня, просто дыша в твою сторону» (Левитин). Ученики же, по меткому сравнению Маканина, — это «суслики», «робкие степные зверьки», «вбирающие чуткое постоянство или же переменчивость в посвисте ветра»