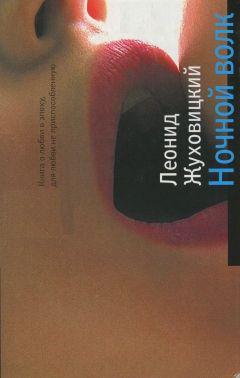Леонид Жуховицкий - Банан за чуткость
— Ха! Ха! Ха!
— И вообще, что за манера привязываться к моим знакомым?
— Он не твой знакомый, а Игоря!
— Во всяком случае, не твой. У вас в техникуме достаточно твоих ровесников, чтобы…
— Ха! Ха! Ха!
Лидия спросила:
— Может быть, ты прекратишь наконец это идиотское «Ха! Ха! Ха!»?
— Ха! Ха! Ха!
Видимо, Лидия решила, что для пользы дела лучше говорить спокойней. Она отложила книгу:
— Попробуй рассуждать серьезно. Поставь себя на его место: ну зачем ты ему нужна?
Но Галю еще качала стихия скандала:
— Затем, зачем ты нужна своему Игорю!
Лидия начала быстро краснеть, глаза у нее сузились:
— Не смей говорить пошлости!
— Что хочу, то и говорю! — по инерции огрызнулась Галя.
— Я тебе просто уши нарву!
— Ха! Ха! Ха! Педагогический прием!
— Немедленно замолчи! — крикнула Лидия и ударила кулаком по дивану. Пружины отозвались долгим дребезжащим звоном, и это окончательно вывело ее из себя. — Слышишь?
Галя вдруг поняла, почему так разозлилась сестра. На секунду запнулась, но тут же отрезала с полным сознанием собственной правоты:
— Каждый понимает в меру своей испорченности!
Она пошла на кухню и долго, с демонстративной тщательностью готовила ужин. Подумаешь! Она слишком хорошо знала Лидию. Ничего ей Костя не говорил. И ничего он не знает. А она — пусть знает. Игорю протреплет — наплевать! В крайнем случае всегда можно отбрехаться. Докажите!
Она сняла сырники со сковороды. Поглядела в окно. Прислушалась к пианино за стеной, к неуверенным детским ударам по клавишам.
Вечер впереди лежал длинный и пустой. С Лидией не поговоришь. К Зойке не пойдешь — уроки. А в уроках тоже радости мало.
Жаль, мамы нет. Ходила бы сейчас по квартире, раскидывала вещи — весь Лидин марафет вверх тормашками. Телефон бы трезвонил. Пускай бы хоть обругала — ругается она весело. Может, в магазин бы за чем‑нибудь погнала…
Галя открыла дверь, по очереди ткнула мизинцем во все три дырки почтового ящика. Ящик был пуст. Она посчитала, мама уехала в январе. Значит, еще четыре месяца будут приходить маленькие плотные конверты с тропическими марками и узким штампом «международное»…
Она тихо закрыла дверь, вернулась на кухню и, сев на табуретку, стала глядеть, как туманится, подпрыгивая на пару, никелированная крышка чайника. Ей становилось все тоскливей и неприкаянней, и не из‑за уроков, не из‑за Лидии, а потому, что все отчетливей представлялось, как в тесном дворе кособочатся сарайчики и ярко горит на третьем этаже большое незашторенное окно.
Вот уже два месяца ее тянуло к этому окну, как тянуло к тротуарам, по которым он ходил, к кварталу, который год назад он вычертил в своей мастерской. И простенькое кафе на углу было его кафе, и горький запах селедки тревожил и кружил голову. А день все явственней становился лишь дорожкой к тому моменту, когда в проеме строгой двери знакомо и неожиданно вспыхнет красное пятно шарфа.
…Как‑то шла с подругами в кино и вдруг увидела Костю. Она что‑то соврала девчонкам и побежала за ним. Он не свернул в свой переулок, прошел дальше, к остановке, и Галя испугалась: вот сейчас сядет на трамвай — и все. Но трамвай прозвякал мимо, а он стоял и спокойно курил. Какая‑то женщина с хозяйственной сумкой посмотрела на него, отошла в сторону и еще раз посмотрела. Он докурил и бросил окурок на рельсы легким плавным движением, от которого у нее опять слезы подступили к глазам.
Еще один трамвай остановился и отъехал, перемешав людей на остановке. Галя вдруг увидела, что Костя уходит, и не один — его держала под руку девушка в шубке и красных ботинках–сапожках. Галя вспомнила, что еще как‑то видела ее — наверное, работают вместе. И опять пошла следом.
Они свернули в боковую улочку, потом в переулок. Галя отстала: в переулке народу почти не было, а покрепчавший к вечеру снег, то скрипел, то с бурчаньем оседал под ногами.
Еще раз свернули за угол, и город будто разом кончился. Пошли одноэтажные домики, каждый на свой манер, со своим садом, забором, почтовым ящиком и своей, особенной дощечкой на калитке. Здесь еще лежали сугробы, тропинка была узка, и девушка в шубке отпустила Костину руку и пошла впереди. Они почти не разговаривали, только один раз та обернулась, что‑то спросила, качнув головой, и, рассмеявшись, показала язык.
Они зашли в одну из калиток, и минуту спустя осветилось угловое окно домика, аккуратного, как дачка.
Галя подошла поближе и встала у забора напротив, прислонилась спиной к высокому штакетнику. В окне, за плотными шторами, низко горела лампа. Время от времени высокий Костин силуэт разламывал надвое освещенный квадрат и сдвигался, уходил в сторону.
Галя посмотрела направо вдоль улицы и налево вдоль улицы, запрокинув голову, посмотрела на звезды в тихом небе. Она прикрыла глаза, и плечи ее ослабли от ощущения счастья и покоя. Так хорошо, так спокойно было на этой тихой улочке, где вполсвета горят фонари, где в зашторенном окне Костин силуэт, а впереди еще долгие, долгие улицы, по которым он пойдет домой, а потом, в самом конце вечера, родные, как собственная комната, сарайчики в темном дворе…
Раньше с ней никогда такого не было. Нравился в седьмом классе один мальчишка: взглядывала на него издали, считала, что влюблена. Но это было детство, да и кончилось по–детски.
Как‑то он подошел к ней на улице. Она остановилась, холодея, холодея от страха и радости. Он ковырнул ботинком асфальт.
— Привет!
— Привет, — ответила она.
— Чего делаешь?
Она совсем растерялась, и прежде, чем успела что‑то сообразить, с языка сорвалась грубая универсальная фраза для ребят вообще:
— Видишь — иду.
Он помолчал немного и спросил:
— Ну а вообще‑то что делаешь?
Она ответила безнадежно упавшим голосом:
— Хожу…
— Ну, ходи, ходи, — сказал он.
Тем и кончилось. Мальчик был гордый — больше к ней не подходил. А сама не решалась.
Недавно встретила его на катке — маленький, уши красные, даже вспомнить смешно…
В конце улочки показалась какая‑то фигура, и Галя медленно пошла по тропинке — до угла и обратно. Фигура скрылась в одной из калиток. А в окне, на освещенной шторе, шевелился теперь женский силуэт. Девушка поправляла прическу.
Одевается, подумала Галя, и сердце у нее заколотилось. Сейчас выйдут…
Она быстро прошла мимо домика, стараясь заглянуть в яркую щель между шторой и рамой. Но не успела — свет в окне погас. Она бегом бросилась за угол — сейчас выйдут…
В переулке было светло от частых окон длинного двухэтажного дома. Галя спряталась в решетчатую тень забора и стала ждать. Вот сейчас, наверное, надевают пальто. А та возится с застежками или крутится перед зеркалом в прихожей. Выходят, наверное… Дверь еще надо закрыть… Идут по саду тропкой между сугробами… Она впереди, а Костя за ней… Подошли к калитке… Открывают калитку… Открывают калитку. Открывают калитку…
С угла хорошо был виден домик, темный по фасаду, калитка и почтовый ящик, белеющий на заборе рядом.
Чтоб быстрей прошло время, Галя стала считать. Сосчитала до ста. Еще до ста. Уже машинально — еще до ста. Никто не вышел, и окно не зажглось.
Откуда‑то вывернулся мальчишка в большом ватнике и, остановившись в трех шагах, уставился на Галю, будто в гляделки играл. Она тоже хмуро подняла глаза.
Мальчишка спросил с вызовом:
— Чего смотришь?
— А ты чего? — спросила она ему в тон.
— Я‑то ничего.
— Ну и я ничего.
Он постоял еще немного, сунул руки в карманы и пошел, пренебрежительно дрыгая стоптанными валенками. Галя осталась.
Она опять прислонилась спиной к забору и простояла так долго — полчаса, а может, и час. Она смотрела наискосок через улицу на домик, темный по фасаду, и старалась что‑то сообразить — медленно, как сквозь сон. Не было ни обиды, ни горечи. Просто нужно было понять, почему в комнате за погашенным окном — он. И почему — та женщина.
Ревности тоже не было. Он жил в другом возрасте, будто в другой стране. Просто она пыталась понять законы этой страны.
А назавтра в пять Галя снова стояла за толстым витринным стеклом гастронома, прислонив к ноге тяжелую от учебников папку. Все осталось как есть. Только жизнь стала еще сложней: к его работе, его шарфу, его окну, его кварталу, его кафе прибавилась его женщина.
В пятницу днем Галя встретила ее на улице — узнала по шубке. Пропустила вперед и, с трепетом глядя на ритмичный переступ красных сапожек, пошла следом, как пошла бы за Костей.
Март уже подбирался к середине, солнце грело по-весеннему, да и небо было весеннее, синее. Последние наледи по краям мостовых сверкали и текли, сугробы чернели снизу и, отделившиеся от асфальта, выглядели временно, словно их положили тут на минутку и сейчас опять унесут.