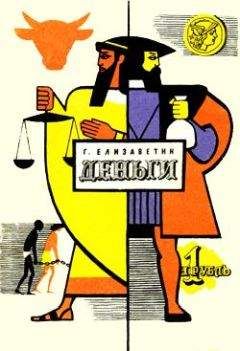Владимир Фридкин - Фиалки из Ниццы
— Главное — это не потушить в себе свечечку, — сказал Маршак.
Пастернак еще не написал тогда стихи о горевшей свече, и Паша вспомнил эти слова много лет спустя, когда прочел в самиздате стихи из романа.
Встречи с Маршаком продолжались. Паша приносил ему на Чкаловскую новые стихи. Самуил Яковлевич терпеливо разбирал их и правил. А один его урок Паша запомнил на всю жизнь. Маршак снял с полки томик Пушкина и прочел «Три ключа»:
В степи мирской, печальной и безбрежной
Таинственно пробились три ключа:
Ключ юности, ключ быстрый и мятежный,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.
— Вот тебе вся жизнь поэта в восьми строчках, — сказал Маршак. — И дело не в метафорах. Поэзия должна быть плотной, как вещество в центре Земли. И еще труднодобываемой. Грамм радия на тонну руды.
— А при чем здесь изгнанники?
— А поэт и есть изгнанник. Иначе ему не добраться до Парнаса и Кастальского ключа.
Паша не унимался.
— Но если поэт на Парнасе пьет из Кастальского ключа, то откуда забвенье?
Маршак отвел взгляд и долго молчал. Смотрел в стол, где лежал раскрытый том Пушкина.
— Что оставлю после себя?.. Избегу ли забвенья? Этот вопрос мучает всю жизнь каждого творческого человека, не только поэта. И за жизнь он дает на него разные ответы. Стихи, которые я тебе прочел, Пушкин написал за десять лет до смерти. А перед самой смертью написал «Памятник»: Нет, весь я не умру. Державин — наоборот. Молодым написал «Памятник», а перед самой смертью — о реке времен, пропасти забвенья. И жерле вечности, пожирающей все дела людей. Это и есть жар сердца. Тебе еще рано думать об этом, — Маршак печально улыбнулся, — но если и дальше будешь писать, то обязательно задумаешься.
Детская болезнь стихосложения обычно проходит с возрастом. У Паши она, к сожалению, перешла в хроническую форму. Остался позади строительный институт, Паша уже сидел за кульманом. На площади рядом с Политехническим, где стоял памятник Дзержинскому, выросли новые здания. Говорили, что эти здания только вершина айсберга, а сам айсберг уходит глубоко под землю. Но его жизнь уже давно не была тайной для Паши и Сергея. А сам памятник москвичи называли поллитрой с красной головкой. Прошли шестидесятые годы, годы свободомыслия на кухнях, начала самиздата. Как древние кумранские рукописи, друзья открывали для себя поэзию Мандельштама и Пастернака, прозу Булгакова…
Как-то зимой в середине шестидесятых Паша приехал в Махачкалу, куда давно звал его сокурсник Сахрат — работавший в тамошнем обкоме начальником строительного отдела. Махачкала некрасив, особенно зимой. Выходишь из поезда — слева пологий берег моря, песчаный и грязный, будто присыпанный угольной пылью. Если пройтись вдоль него, обязательно наткнешься на остатки осетровых туш со вспоротым брюхом. Справа по ходу поезда — кривые улочки, вползающие наверх в приземистый провинциальный город. Пашу ждало кавказское гостеприимство: люкс в «Интуристе», цветы и самовар на столе и холодильник, в котором кроме бутылок с вином и шампанским, он нашел литровую банку с черной икрой. Банка была завернута в газету «Заря Востока» и перевязана бельевой веревкой. Уже при встрече Сахрат предупредил, что в этот вечер придет Расул Гамзатов и они немного посидят. Вскоре в номер незнакомые молчаливые люди в широких кепках внесли два ящика коньяка, поставив их на пол друг на друга. Позже с большими свертками пришли Сахрат и его несколько товарищей. Накрыли стол. И тогда в номере появился Гамзатов. Раньше Паша не был с ним знаком, но, конечно же, читал его стихи в превосходных переводах Гребнева и Козловского. Образный восточный строй стихов Гамзатова ему нравился. Но недоброжелатели любили говорить, что Гамзатова сделали переводчики. По Москве ходил такой анекдот. Будто бы Гамзатов то ли по-аварски, то ли по-русски написал примерно так:
Кто стучится в дверь ко мне?
Я сюда никто не звал.
Это девушка пришел,
Он… мне принесла.
А в переводе Наума Гребнева это же будто бы звучит иначе:
В моей сакле раздался стук,
И взыграла пьяная кровь,
Это ты вернулась мой друг,
Это ты проснулась любовь…
Надо ли говорить, что все это было несправедливо, и Расула эти разговоры очень обижали. Он сидел за столом, грузный, в расстегнутой короткой дубленке. Начались тосты, коньяк пили из граненых стаканов. Пить полагалось обязательно. А вот говорить в его присутствии не полагалось. Говорил он сам, и когда смеялся, его глаза щелочкой становились еще уже, лоб поднимался гармошкой к седым лохмам и, казалось, на лице оставался один большой хитрый нос. Время от времени дверь в номер приотворялась, и в комнату заглядывал небритый человек в сапогах и кепке-«аэродроме». Расул чуял его спиной и объяснял, обращаясь к Паше:
— Видел его? Мой шофер, стукач по совместительству. Стучит обо мне Патимат, — где, когда и с кем.
В его речи диссидентская фразеология причудливо соединялась со словарем высокого номенклатурщика, члена Президиума Верховного Совета. В Москве судили парня-аварца за изнасилование. Его родственники просили Гамзатова помочь.
— Позвонил по вертушке в аппарат Президиума, — рассказывал он. — Сказал, есть мнение разобраться. Дали три года.
Уже за полночь Паша решился и прочел Гамзатову свои стихи про Пушкина в Карлсбаде. Конечно, Пушкин в Карлсбаде не был, как и вообще за границей. Но как-то, будучи там по профсоюзной путевке золотой осенью, Паша увидел в горах лесную дорогу, которая называлась «Тропой Пушкина». И вот рассуждая в стихах на эту тему, Паша назвал Пушкина невыездным поэтом. По тому времени ему казалось, что это довольно остро. Стихи Расулу не понравились.
— Вот только про невыездного — это неплохо, — сказал он. Потом помолчал и посмотрел на Пашу так, как будто только что увидел. — Слушай, зачем стихи пишешь, у тебя и так специальность хорошая.
С последним Паша никак не мог согласиться.
Под утро, когда в пропахшей винищем комнате погас свет, а из открытого серого окна потянуло навозным запахом талого городского снега, Паша вернулся к пушкинской теме. Спросил Расула, как он думает, мог бы Пушкин быть членом Государственного Совета у Николая?
— Почему бы и нет, — сказал Расул. — Может быть, помог бы декабристам.
Намек он понял, но говорить об этом не захотел. Возможно, устал за ночь, но скорее вопрос был ему неприятен.
Как-то гуляя с Сахратом, они прошли мимо дома Гамзатова. На фоне старых обшарпанных домов он выглядел богатым особняком. Гуляя, Паша как раз рассуждал на известную тему о том, что в России поэт — больше, чем поэт.
— Правильно, — сказал Сахрат, — у нас в Дагестане Гамзатов — больше, чем первый секретарь обкома.
Перед отъездом Сахрат вручил Паше несколько книг Гамзатова. На титульном листе была размашистая подпись автора, под углом, снизу вверх, напоминавшая резолюцию, вроде «не возражаю».
Сергей долго смеялся, когда Паша с огорчением рассказал ему о своем провале в Махачкале.
— Конечно, в Дагестане есть горы. Но неужели ты думаешь, что Парнасская гора находится рядом с коньячным заводом в Дербенте, где бьет Кастальский ключ, чистые пять звездочек?
— Нет, коньяк был «Юбилейный».
— А что, это меняет дело?
В школе Паша и Сергей учили немецкий. Позже Сергей выучил и английский, и французский и читал на трех языках лекции. В своем институте Паша по лености сдавал на зачетах «странички» по-немецки. Зачем строителю иностранные языки? Ругаться на стройке с рабочими? Так это лучше на родном. Однажды Паша купил у букиниста томик немецких стихов Курта Тухольского. О Тухольском он где-то читал. Знал, что поэт был немецким антифашистом и жил изгнанником в Швеции. У нас он никогда не был, но очень надеялся, что Сталин покончит с немецким фашизмом. Но когда понял, что чума не лучше холеры, принял на ночь смертельную дозу снотворного. Стихи его Паше понравились. В них было что-то от Гейне, соединение лирики, иронии и растерянности одинокой души.
Паша перевел несколько стихотворений Тухольского: «Парк Монсо», «Глаза в большом городе», «Шансон». Особенно долго он бился над озорным «Шансоном». Не все удалось в переводе. Так, у Тухольского гейша, лежа с матросом на мшистой лужайке, гладит рукой «moos». Это старое немецкое слово означает одновременно мох и деньги. По-русски это можно передать только известным жестом — потиранием большого пальца об указательный. Как ни бился, Паша не смог подыскать этой немецкой идиоме русский эквивалент.
Плывут острова от нас на восток.
Япония — так зовут их.
Картонные домики, мелкий песок
И дамы как лилипуты.
Как в мае редиски, растут деревца.
Башни у пагод не больше яйца.
Горы, холмы
Не выше волны.
По мху семенят фигурки легко.
От удивленья раскрыли вы рот:
У нас в Европе всё так велико,
А в Японии — наоборот.
Там гейша сидит. Блестят как лак
И пахнут розами косы.
А рядом с ней как морской маяк
Маячит фигура матроса.
Он ведает девочке в ярких шелках
О том, как земля его велика.
Люди, земля
И тополя.
И гейша, плененная моряком,
От удивленья раскрыла рот:
У них в Европе все так велико,
А в Японии — наоборот.
И был там лес, совсем маленький лес.
В нем сумерки быстро сгустились.
А вот и гомон птичий исчез.
Гейша с матросом скрылись.
Восток и Запад. Уста у уст.
Вот он, дивный народов союз.
Голубь резвится.
И с ним голубица.
И дышит гейша во мху глубоко.
Сиянье в глазах, раскрыт алый рот:
У них в Европе всё так велико,
А в Японии — наоборот.
«Шансон» и другие переводы из Тухольского Паша показал Сергею. Тот был уже известным человеком, физиком с мировым именем. Сергей сказал, что сам в стихах мало что понимает, но покажет их своему знакомому, известному поэту и переводчику немецкой поэзии Льву Гинзбургу. Паша взмолился — не надо. Переводы Гинзбурга были блистательны и совершенны. Паша восхищался ими. Но Сергей не послушал. Через пару дней позвонил Паше и сказал, чтобы назавтра он ехал к Гинзбургу в писательский дом у метро «Аэропорт». Он ждет. В назначенный час Паша позвонил в его дверь. Ее открыл приземистый плотный большеголовый человек со строгим непроницаемым лицом. Гинзбург жестом указал дорогу в кабинет, где он сел за рабочий стол.