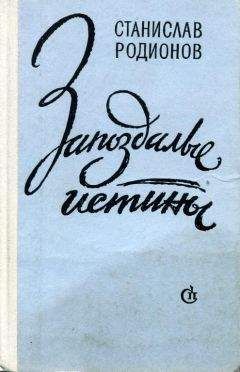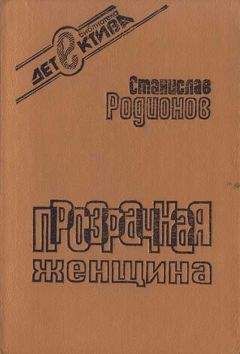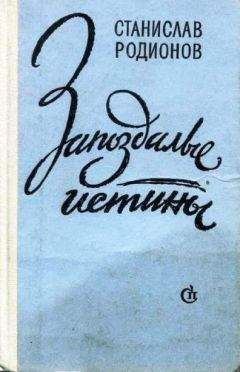Иван Родионов - Наше преступление
XVI
осле того, как старец упал в обморок и несколько дней пролежал на лавке, не вставая, он позвал к себе Леонтия.
– Левон, какой ноньче день-то? – спросил он.
– Четверг. Тебе на што?
– В субботу истопи баню, сынок, а... в воскресенье свези в церковь... приобщиться... надоть...
– Што, помирать собрался? – с усмешкой спросил Леонтий, кивнув на отца головой. – Давно пора... Надоело чужой век-то заживать. Истопим, што ж...
Никогда не болевший старец и теперь не чувствовал никакой боли, но по тому, как с каждым днем у него убывали силы, догадался, что ему уже не встать более самому с лавки, поэтому хотел по-христиански приготовиться к тому последнему путешествию, откуда «нет возврата».
В субботу была вытоплена баня. Леонтий с Егорушкой вымыли в ней старика и надели на него чистое белье, в воскресенье вывели его под руки из избы, посадили на телегу и повезли в церковь, находившуюся всего в полутора верстах от Черноземи. За всю дорогу старец не проронил ни одного слова, но осмысленным, усталым взглядом осматривался вокруг себя, как бы прощаясь с той землей, на которой он родился и прожил свою долгую, трезвую, честную жизнь.
В церкви Пётра, прислонившись к стене, выстоял всю обедню на ногах, жарко молясь Богу, и даже выражал неудовольствие на Егорушку, когда тот поддерживал его, видя, что у деда дрожат и подгибаются колени.
Приобщившись св.Тайн, просветленный и успокоенный, Пётра вернулся домой, занял свое место на лавке и стал молча, никогда ни на что не жалуясь, дожидаться смерти. Говорил он только тогда, когда надо было попросить пить, есть же ничего не мог. Так пролежал он больше четырех недель.
В тот день, когда Леонтий привез из Шепталова больную мать и сумасшедшую сестру с двумя малютками, мужик был опечален и раздосадован новым несчастием и новой обузой, свалившейся на его плечи.
– Вот, Левон Петров, живи теперича, не тужи, извивайся, как уж на виле, – расхаживая по избе, кричал Леонтий нарочно так громко, чтобы слышал больной отец.
Старец заворошился на лавке под тулупом и повернул к сыну лицо.
– Ты лежишь, не умираешь, сестра с ума спятила, мать с горя совсем расхворалась, маленькие пищат, есть просят. У меня теперича в избе и больница, и сумасшедший дом, и шпитательный дом. Хошь бы ты, отец, скорей помёр, руки бы развязал... а то другой месяц валяешься и не помираешь... Чего тебе? Свой век отжил, другим бы место опростал. А то вишь какая теснота...
Лицо старика чуть-чуть сморщилось. Он пожевал губами и через недолгий промежуток времени, с усилием выговаривая слова, спросил:
– А што – с робенком-то?
– Што? – озлобленнее и еще громче закричал Леонтий. – Двойню вон принесла, а сама сшалела, вон погляди: сидит дура-дурой...
Старик снова пожевал губами и опять не сразу произнес:
– На все воля Божья... а про меня не печалься... скоро развяжу руки...
Леонтий спохватился, что незаслуженно глубоко обидел умирающего отца, но сразу у него не хватало мужества открыто сознаться в этом, и он в волнении крупными шагами подошел к двери, с секунду в нерешительности постоял, потом открыл ее и вышел. Через минуту он вернулся и подошел к отцу.
На глазах мужика блестели слезы, и его суровое лицо стало беспомощным и жалким.
– Батюшка, рази я што... не я говорю, а горе мое говорит. Сдуру сболтнул. Рази ты меня куском объешь?! живи... легко ли мне отца родного решиться?!. Ведь горе мое говорит... Ведь завязал бы глаза и убежал куда-нибудь. Да бежать нельзя, куда их поденешь?! А я што... живи... Рази я што...
– Я знаю, Левон... – тихо, ласково промолвил старец и замолчал.
Егорушка привез из Руднева сестру Елену. Она вбежала в избу и, испуганно глядя заплаканными глазами в глаза Леонтия, поспешно спросила:
– Левушка, да што с Ка тюшкой? Егорушка говорит...
– Чего ж? – отвечал, расхаживая по избе с пищащими племянниками на руках, Леонтий, – вон полюбуйся на блаженную сестрицу, родила да и с ума спятила, лежит, спит себе, горюшка мало, а робяток не принимает, говорит: щенки!
Леонтий горько усмехнулся и мотнул головой в сторону Катерины, которая заснула на кровати, устроенной для нее около двери, запрокинув свое осунувшееся, принявшее землистый оттенок лицо.
– Ты вон положи своего-то куда-нибудь, а вот возьми покорми племянницу. Голодная!... Со вчерашнего дня, как родилась, маковой росинки в роту не было.
Елена, поспешно взяв на руки пищащую малютку-племянницу, присела на лавке. Всунув грудь в ротик ребенку, Елена залилась слезами.
– Горе-то какое, Левушка! И где только беда не ходит, все к нам придет. Как же быть-то?
Леонтий вздернул плечами, продолжая ходить с раскричавшимся племянником на руках.
– Ну, не кричи, не кричи, чего раскричался, мужчина? Как же быть?! – отвечал он сестре. – Все равно, твой хозяин-то тебя с детьми не кормит, а какие есть нехватки, все брат Левон пополняй, так вот и ты теперь услужи. Жить тебе у меня негде, тесно. Видишь, сколько народу, а другую избу не достроил, все сил не хватает, так живи у себя, а робяток приходи кормить, а уж у меня бери муку, картошку, соль, все, чего тебе надобно. Уж все равно!..
Несмотря на искреннее горе, причиненное сумасшествием сестры, Елена, сидя на лавке, тотчас же сообразила, что, благодаря такому несчастному случаю, ее личное положение устраивается к лучшему. Теперь она с детьми могла не бояться голодной смерти, теперь ей не придется у Леонтия выпрашивать из милости хлеба и каждый раз слушать от него брань и попреки. Теперь он будет обязан ей платить продуктами за ее услуги.
– Да я не о том, Лева, – поспешно сказала она. – А што же с Катей делать?
– Што? – закричал Леонтий. – Думаешь, я сестру в сумасшедший дом определю, штобы ее били там, што скотину? Не отдам, – гремел он, точно кто-нибудь отнимал у него больную.
– У меня будет жить, небось прокормлю. Не прокормлю, што ли?
XVII
а другой день, оставив малюток и «больницу» на попечение сестры Елены, Леонтий поехал в город, чтобы продать на базаре воз сена и купить кое-что для племянников.
Возвратился он поздно вечером, по обыкновению под хмельком, и лег спать на своем обычном месте на лавке, голова к голове с умирающим отцом.
Старец был очень плох. У него уже похолодели и отнимались ноги, дышал он только верхней частью груди, да и то с трудом. Он понимал, что доживает свои последние часы, но об этой жизни нисколько не жалел и, наоборот, хотел поскорее развязать Леонтию руки. За его долгий век жизнь никогда не была для него тягостью. Всякое горе, всякую потерю, невзгоду он переносил твердо, никогда не падая духом, но и всякую минуту готов был к смерти, если это угодно Богу.
Старческий ум его работал ясно. Он отлично понимал, какое великое новое несчастие стряслось над его любимой дочерью, и это его печалило и ему жаль было дочери, как жаль своей старой жены.
«На все воля Божья, – рассуждал старец. – Ничего, проживут за Левоном. Левон – пьяница и собака, завсегда словом обидит... а голодными и холодными не оставит, нет, скорее сам не съест... тяжко ему, маятно, язык у его собачий, а сердце доброе...».
Хотел было Пётра перед смертью попросить сына не пить вина, но раздумал.
«Слаб, пообещает, да не судержится. Один грех».
Когда Леонтий уже засыпал, Пётра зашевелился.
– Левон!
– Чего тебе? – спросил сын.
– Ежели захочу испить... взбужу...
– Ну што ж?! Взбуди... – и Левон тотчас же захрапел.
У двери спала Катерина; больная Прасковья возилась на своей кровати. Малютки иногда просыпались и пищали. Спавший на печи Егорушка спросонья хватался рукой за конец очепа, продетого под потолком в кольцо, на другом конце которого висела зыбка, и качал ее до тех пор, пока малютки не утихали.
Под печью кричал сверчок, и по стенам шуршали тараканы.
Пётра лежал смирно, тяжело дыша, не шевелясь и чувствуя, как жизнь медленно замирала в нем, подобно живительной струе, вытекавшей из разбитого сосуда и неизвестно где пропадавшей. Он старался только о том, чтобы достойно умереть, и мысленно молился Богу.
Внутри у него палило. Пётра с большими усилиями протянул руку и, нащупав голову сына, несколько раз подряд щелкнул его пальцем по лбу. Леонтий приподнялся.
– Што? што? – забормотал он, просыпаясь. – Ты... тятя?
– Ис-сп-пить... – едва слышным, прерывистым, хриплым полушепотом попросил умирающий.
Леонтий спустил босые ноги на пол, не скоро отыскал спички, зажег лампу, сходил в сенцы и, зачерпнув там из кадки ковшик воды, поднес отцу.
Старец, кряхтя, с трудом, медленно приподнял с изголовья трясущуюся голову и, перекрестившись, стал пить, но вода полилась у него через нос.
– Вздым...мм... – как чуть слышный шелест сухих листьев, пронесся медленный шепот старца. Леонтий, перехватив ковшик в левую руку, правой осторожно обхватил отца под спину и приподнял.
Голова умирающего, как отрубленная, привалилась к его груди, и когда сын поднес снова ковшик к его губам, старец был уже мертв.