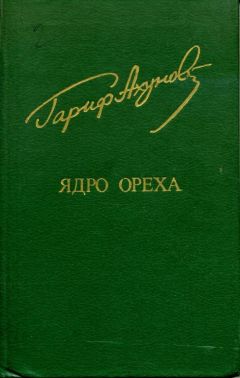Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
она скорбно развела руками: «Что делать, если в схватке дикой всегда дурак был на виду, меж тем как человек великий, как мальчик, попадал в беду».
«А что он мог?» — хитровато развел руками и Вл. Соколов.
Корнилов не просит ни пощады, ни чудесного спасения. Он спокоен. «Тебя убьют…» Слезы перегорают, не успевая показаться на глазах. «Тебя убьют, и тут-то обнаружится, что ты и есть та самая любовь…» И все-таки идешь, идешь, зная все, — под горный шум, под пистолет Мартынова на молньями играющий Машук. Идешь, потому что это твоя жизнь, твой подвиг и твоя судьба. Потом судьба — «растроганною мачехой склоняется к простреленному лбу…». А ты идешь — без слез и жалоб, потому что мужеству не нужны сожаления. «И по ночам поэмы пишут мальчики, надеясь на похожую судьбу…» Ты — человек? Иди.
К сожалению, многие знают В. Корнилова лишь по его старой, тяжеловесной и неудачной поэме «Шофер». В нетерпеливой жажде опереть своего лирического героя на почву реальности Корнилов схватился за романтическую фигуру неприкаянного шофера. Он учуял здесь что-то интересное (недаром через пять лет по этой же литературной мишени метко пробил прозаик Владимов). Но поэт промахнулся, его лирический герой разъехался с героем поэмы, между пафосом («что железная справедливость человеку нужней, чем хлеб») и сюжетом связь прервалась, и сюжетные перипетии обернулись старомоднейшей литературной схемой (он был титулярный советник — она генеральская дочь; а после «Аленки» С. Антонова неловко и говорить-то об этой схеме всерьез: Антонов рассказом Степки Ревуна прочно перевел ее в комический ряд). Но тяга поэта к эпосу, повторяю, знаменательна: цельная личность не может не искать выхода в действии, поэзия внутренне прочная не хочет расплываться в ассоциациях: она предпочитает разбивать себе голову, штурмуя стены эпоса.
И драматизм ее — не дань моде, а черта биографии.
И оптимизм ее — продолжение мужественности.
И мужественность ее естественна.
Корнилов противостоит узко понятому (и широко модному) «современному стилю», — он реалист. Герой стихов Корнилова — солдат. Фон предельно конкретен. Степь где-то на юге. Сушь. Пыль. Гарнизон. Сухой и четкий крик приказов, сухой стук пишмашинки в штабе, сухой стук пристрелки. Человек вобран в службу. Он сдержан, он не умеет громко жаловаться и громко умиляться. Все внутри. Но внутри все живое и кипящее. Здесь не нужны ни допинги ассоциаций, ни костыли рассудочности — движение стиха идет как бы изнутри, от душевной силы. Отсюда — и стиль. Там, где Вознесенский громко ахает на нестерпимо синий нестеровский взор молодого попа и начинает незамедлительно его агитировать за свою индустриальную жизнь: «Эй, парень! Тебе б дрова рубить! На мотоцикле шпарить! Девчат любить!» — там у Корнилова два сверстника лишь обмениваются испытующими взглядами: «Отпер поп колодец, денег он не взял. — Пейте, полководец, — вежливо сказал… Он платочком вытер капельки со лба… Может, я обидел этого попа?..»
Это далеко не лучшее стихотворение Корнилова; во всяком случае, я не собираюсь объявлять его эталоном и образцом. Оно интересует меня с точки зрения подхода к человеку. Вознесенский вставляет человека в орнамент; современная оправа — мотоцикл, ветер шоссе — лучше, чем заплесневелая оправа: крест; но человек и там и здесь — часть оправы. Корнилов ищет другое: он остается на уровне убийственно-сожалительной вежливости своего оппонента, он хочет его понять — и не может, это страшнее, потому что Корнилов видит не попа — человека видит, закованного в крест. Они расходятся — два сверстника, два человека, неожиданно чужие, и в их молчании больше тяжести и горечи, чем в экспрессивном: «Эй, парень!..»
Вот, собственно, и весь прогноз.
Никто не предскажет, какие рифмы станут распространены завтра, чья творческая манера окажется самой популярной, какой конкретный облик примет стих. Да в том ли дело, право! Поэзии нужно другое: личность нужна. Быть человеком в тех условиях, которые поставило тебе время.
Куда пойдет поэзия? И как будет противостоять она описанной Б. Сарновым распроклятой энтропии? Можно, конечно, игнорировать ее, распроклятую. Это, конечно, глупо. Можно на нее настроиться, как кролик настраивается на удава, — всеми своими ассоциациями. Может быть, это и кажется умнее: становишься, так сказать, пророком энтропии на земле.
Но можно и устоять. Можно! Физики оставили нам лазейку, дорогой Сарнов! Второй закон термодинамики — закон возрастания энтропии — действителен только для замкнутых систем.
А литература — система открытая.
Примечание 2000-х.
Пожалуй, здесь требует психологической расшифровки только возглас: «Дорогой Сарнов». Бенедикт Михайлович много лет потом пожимал плечами по поводу этого моего выкрика. И его можно было понять. Но почему-то мне до смерти жалко было это выбрасывать. В периодике соответствующий полемический кусок у меня не прошел, а там это было понятнее: я спорил не столько с его литературными оценками Сарнова (об этом не спорят), сколько с его угрюмым, как мне казалось, неверием в «моих» героев (о чем тоже не спорят, конечно). Между прочим, это интонационное расхождение легло между нами на всю жизнь. Вряд ли когда-нибудь кому-нибудь это покажется важным. Но — бывает, что «из песни слова не выкинешь»: именно это «слово» меня тогда держало: все мои друзья-физики, однокашники и сопоходники 60-х годов стояли за ним: Сарнов, конечно, великий физик, но Сазыкин не хуже!
2. Раскрутка (1961–1964)
МЫСЛИ О МОЛОДОМ ПОКОЛЕНИИ
Где, собственно, начинается и где кончается поколение? Когда молодежь становится взрослой? Может быть, есть какой-то возрастной барьер, по прошествии которого человек открепляется от молодежи, подобно тому, как по достижений двадцати восьми лет он выходит из комсомольского возраста?
Двадцать восемъ?
Аркадий Гайдар в семнадцать лет на фронте гражданской войны командовал полком, Добролюбов, оставивший миру гениальные статья, о которых дважды упоминал Энгельс, Добролюбов умер двадцати пяти лет. Какой-нибудь современный молодой инженер, в 18 лет получивший аттестат зрелости, а в 23 — диплом, — к двадцати пяти годам едва-едва вырастает ив тех пеленок, в которых принято держать его два первых года работы, как молодого специалиста.
Уж не резонно ли ворчат старики: в наше-де время была молодежь, мы в эти годы войны на плечах выносили, мы принимали самостоятельные решения, мы — делали историю, а вы -
Впрочем, не вечная ли это песня? — «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…»
А нынешнее племя — не выбирало времени, в которое ему родиться. Оно пришло, оно застало мир в определенном состоянии, с его будничной работой, с его каждодневными проблемами, с его легендами о том, что Бонапарт-де в двадцать четыре года взял Тулон и в генералы вышел, а тут надобно каждый день на службу идти…
Какова эпоха — такова и молодежь. Интересно ведь не то, чем похоже нынешнее молодое поколение на молодых людей всех времен: тут и романтическое томление, и нетерпеливость юности, и мечты, и «нечто, и туманна даль", и т. д.
Самое интересное: чем отличается нынешняя молодежь от молодежи иных времен.
Надо начинать с эпохи,
Возьмем русскую историю последних, послереволюционных десятилетий. Вспомним 20-е годы, время невиданных перемен, время страшной социальной борьбы, когда все казалось огромным, необычайным, и вся жизнь словно и предназначена была для подвигов, или 30-е годы, когда молодая Советская страна переживала экономическую и культурную революцию, когда была острейшая нужда в специалистах, и всякого мало-мальски грамотного человека буквально тянули не учебу, заставляли проявить себя максимально… Или годы войны…
Нет, теперешнее время — и легче, и труднее для молодого человека. Как недавно написал один известный советский критик, которого в 30-е годы, во времена его молодости, как вспоминает он, беспрестанно "выдвигали" — в счетоводы, в заведующие, в инспектора, в институт… — нынче "современному молодому человеку не так легко заявить о себе, будь даже он семи пядей во лбу». Нынче еще должен он доказать перед другими сверстниками свое преимущественное право на творческий рост — жизнь отбирает лучших — и если и останется он рядовым человеком, без всякой, казалось бы, внешней возможности подвига иди роста — и в этом случае он, какой-нибудь простой служащий, или рядовой рабочий, или ничем не примечательный колхозник, — должен суметь найти свой путь служения идеалу.
Иначе — как жить, зачем жить?
Служащий» рабочий, колхозник… Студент, приведший в институт с производства… Студент, пришедший в институт из школы… Да и сам школьник, еще не знающий, кем он станет, — тоже ведь молодое поколение. Очень трудно охватить нынешнюю молодежь одной — даже очень широкой — характеристикой — слишком большое тут богатство судеб, биографий, профессий, социальных и иных оттенков… В одной йз последних советских пьес встречаются сверстники. Один говорит другому: «Я с тринадцати лет сестренку кормил, плоты сплавлял, на лесозаводе трубил, пока ты получал похвальные грамоты»… Один — таежник, сибиряк, рано узнавший нужду, тяжелый труд, взрослую заботу. Другой — дитя города, видевшее жизнь из окна школы и вскоре долженствующее увидеть ее из окна института. Через пять-шесть лет в качестве молодого специалиста такое дитя явится на завод, и в нелегком внутреннем прозрении увидит наконец жизнь такой, какова она есть, и начав переделывать ее, станет человеком… А сколько еще психологических и социальных, местных и национальных вариантов этого молодого человека! Растут ребята на целинных землях, и в огромных столицах, и в меленьких, похожих не деревни, городках Севера, и в больших, похожих на города, селах Юга, и в аулах, ив оазисах, и в стойбищах…