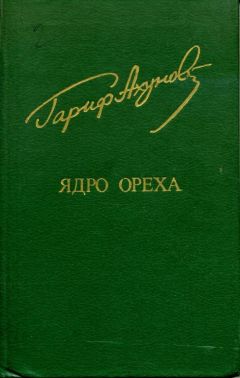Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
«Я разворован. Я разбросан…»
Человека нет — и слова срываются с мест. Дерзкая эта голо-воломность уже потеряла свою загадочность; поэзия затиснута в нее, как в прозрачный неощутимый панцирь, и из этой магнетической скорлупы никак не может вырваться живое ее ядро, потому что личность растворена, расщеплена, распята на ассоциативных рядах, на антисимволах, на вывернутых этих абстракциях.
А рифмы — рифмы, черт возьми, современные.
На рубеже шестидесятых годов много спорили об искусстве, Была целая серия диспутов-прогнозов. Началось, кажется, с того, что инженер Полетаев предложил упразднить искусство; инженера долго уговаривали, писали о ветке сирени в космосе. Потом заспорили о современном стиле; физики и лирики стояли друг против друга, как армии на Угре. Один из последних эпизодов этой бескровной войны — опор о «современном мышлении» в поэзии между критиком Б. Сарновым и физиком В. Клименко, происшедший весной 1963 года в «Литературной газете». Спор сей был полон прогнозов и предсказаний по части того, каким путем пойдет дальше наша поэзия и какой стиль следовало бы признать подлинно современным. Ни в коем случае не желая бросить тень на фундаментальность этого диспута, я должен, однако, признаться, что решение проблемы лично для меня пришло со стороны; в то время как критик и физик обсуждали в «Литературной газете» проблемы математических методов мышления и энтропии в применении к поэзии, в еженедельнике «Литературная Россия» появилась статья прозаика Л. Жуховицкого о так называемом хорошем тоне в литературе; статья эта внесла прямо-таки просветление в диспут о завтрашнем дне поэзии.
Ждали второго Пушкина, а пришел Некрасов.
Ждали нового Толстого, а явился Чехов.
Л. Жуховицкий мог бы смело продолжить свою мысль. Десять лет назад второй Маяковский был запрогнозирован настолько твердо, что начинавшие в ту пору Рождественский и Евтушенко попросту не ведали для себя иного грима.
Было время, когда современным стилем числили ямбы; потом современной стала трехсложная стопа; потом лесенка… Есть и теперь в поэзии так называемый хороший тон; на его основе и строятся вышеупомянутые прогнозы. Искушенные читатели, как правило отточившие свой ум на расщеплении ядер, синтезе смол и истолковании всемогущественнейшей энтропии, увлеченно конструируют новый тип современного поэтического мышления. Выходит все то же: новые методы кибернетики — масштабность и скорость — обнажение скрытых связей — сближение рядов — разрушение форм; выходит нечто ассоциативное, экспрессивное и непременно треугольное. Уровень таких прогнозов, увы, определяется лишь первой, внешней и броской формой обновления. Сама поэзия эту форму быстро перерастает, меж тем как иные ее ценители принимаются сооружать из этой шелухи пьедестал для своих прогнозов.
Орех не вырастает из шелухи — только из ядра. Открытая экспрессия и открытые связи, мерцание рифмы и мерцание смысла, отвлеченный динамизм и ассоциативность — какая шелуха, едва представишь себе все это в качестве обязательного хорошего тона! Да полно, ни один настоящий поэт не исходит из стремления к ассоциативности. Конечно, многие к ней приходят: реальное развитие поэзии — равнодействующая жизненной необходимости и свободной, так сказать, мечты, но мечта, тяга, жажда поэзии никогда не направлены на чистую ассоциативность — всегда на органику, цельность, внутреннюю прочность слова.
Отвечая в «Литературной газете» своему оппоненту, Б. Сарнов, между прочим, процитировал в качестве поэтического образца известные стихи О. Мандельштама: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» Вовсе не с целью цитировать Б. Сарнову образцы критического искусства хочу вспомнить рассуждение из старой статьи этого поэта, Америка прошлого века, писал он, «растратив свой филологический запас, вывезенный из Европы, как бы ошалела и призадумалась и вдруг завела собственную филологию, откуда-то выкопала Уитмена, и он, как новый Адам, стал давать имена вещам, дал образец первобытной, номенклатурной поэзии, подстать самому Гомеру».
Имена вещам… Мечта о прочности, устойчивости, изначальной ясности поэтического слова — о крепости слова или, как еще писалось тогда, о ядре слова.
Слово может быть служанкой спекулятивного мышления, может быть служанкой и сугубой ассоциативности. В обоих случаях страдает поэзия. Все дело в отношении к слову. От внутренне прочной языковой основы отходит не только ассоциативность, построенная на случайных, мерцающих, плывущих (или намеренно и резко сдвинутых) контурах смысла, на мгновенном и условном его сцеплении, — может отойти от нее и рациональная поэзия, которую мы в прогнозах нередко противопоставляем ассоциативной.
Нам ясно, что между ретортой и неоном, а в свою очередь между ретортой неона и аэропортом или между аэропортом и автопортретом — связь преходящая, случайная, субъективная, что слова тут лишены непосредственности, и образ «апостола небесных ворот» строится на отвлечении третьей степени. Перед нами — так называемая темная ассоциативность.
А вот перед нами — светлая рациональность: «Мое поколение, злое, ершистое, мое поколение, доброе, дошлое, я верю: в любых непогодах ты выстоишь, неправда, что мы не запомнили прошлого!»
Я и в этом случае цитирую стихи, не преодолевающие принятой манеры, в данном случае — манеры рациональной. Притом это вам не какая-нибудь ретроградная традиционность: тут и «поколение», и ершистость, и модный авангардизм: все ужасно современно. Но взгляните: ни одно слово не употреблено здесь в своем прочном смысле! «Поколение» — здесь — условный знак, термин из отшумевших дискуссий; или, скажем, «непогода»— такой же условный знак, временное обозначение каких-то отвлеченных «трудностей»… Светлая рациональность может разрушить слово точно так же, как темная ассоциативность, слово для нее— такой же условный знак, подчиненный отвлеченной задаче, такой же абстрактный иероглиф, такое же временное прибежище назидательной задачи, нужной в данное мгновение.
Сугубая ассоциативность — обратная сторона сугубой рациональности. История поэзии показывает, что они идут всегда рука об руку, и чем прочнее Ratioзахватывает будни поэзии, тем неистовее Intuitioкопится в ее резервах. Две эти тенденции есть, наверное, в творчестве всякого большого современного поэта. Но вспомните Пушкина: гармоническая поэзия бежит и сугубой рациональности, и сугубой ассоциативности, она тем и гармонична, что еще не расщепилась на Ratioи Intuitio, на свет и тень, на «да» и «нет». Не к ассоциативности от веку стремится поэзия, а к реальной прочности слова. Чем талантливее стихи, тем трудней найти им место в середине рационально-ассоциативной шкалы, потому что живая поэзия ищет по другой шкале, и стихи стремятся быть крепки прежде всего в первоэлементе поэзии — в слове.
Дорога вьется пропыленной лентою,
То вверх ползет, то лезет под откос.
И засыпает утомленный Лермонтов,
Как мальчик, не убрав со лба волос…
Владимир Корнилов. «Смерть Лермонтова». Слова очищены и от назидательного глянца, и от темных следов ассоциативности. Слова — в первом значении.
А солнце жжет… И, из ущелья вынырнув,
Летит пролетка под колесный шум,
Под горный шум — под пистолет Мартынова
На молньями играющий Машук…
Некоторая суровость корниловских стихов, как бы требующая аскетической простоты формы, органична, она идет от смысла: здесь форма исчезает в содержании, а содержание неотделимо от формы. Мастерство? Я не верю в мастерство как таковое. Мастерство — проявление концепции человека. Корнилов пишет прочно, потому что его лирический герои монолитен.
Последнее время поэты часто касаются дуэли Лермонтова, дуэли Пушкина; любопытно сравнивать эти мотивы; в них мало исторических новаций, но много современных эмоций; каждый видит то, что ему созвучно, и, сравнивая у разных поэтов стихи эти, мы сравниваем нечто большее — лирические автопортреты, человеческие концепции.
Вл. Цыбин метнул молнию в адрес «объевшейся славою падали», жертвой которой стал Лермонтов.
Для Вознесенского, в раннюю свою пору не познавшего еще бездн антимиров, в этой истории нет ни палача, ни жертвы; трагедия размыта в упоительных виражах, где радужно сливаются «ручищи эполетов» с беспамятным лихачеством «шоферов и поэтов», а пробитые черепа становятся пикантной деталью этого оживленного орнамента.
Евтушенко оказался трезвее. В его горькой фразе: «Поэтов часто убивают, чтобы цитировать потом» — явственно прозвучало бессилие.
Героиня Ахмадулиной слишком горда, чтобы просить пощады;
она скорбно развела руками: «Что делать, если в схватке дикой всегда дурак был на виду, меж тем как человек великий, как мальчик, попадал в беду».