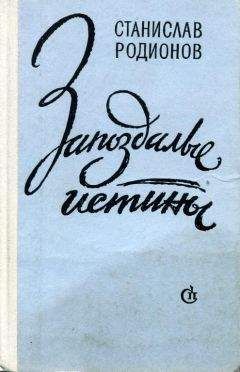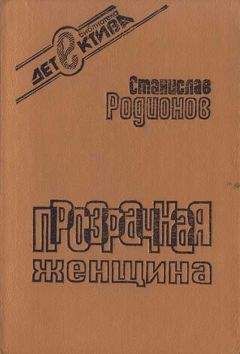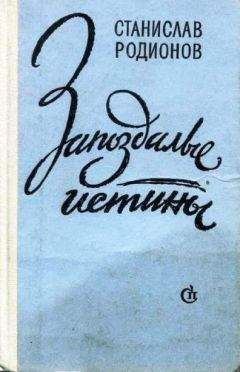Иван Родионов - Наше преступление
Сейчас, лежа одна в пустой избе, куда скупо пробивался вечерний свет через два запыленных окошка с маленькими, матовыми от старости стеклами, Прасковья с подступившими к горлу и глазам слезами начала тихонько причитывать.
Причитывания были скорбною песнью ее души. Все важнейшие события ее жизни и жизни семьи выливались ею в причитываниях. «Так-то вышла я на порог, солнце только что всходило, – начала шепотом Прасковья, – и спросила я у красного солнышка: «Красно солнце восходимое, ты свеча неугасимая, наша теплое, обогревающее, обогреваешь ли мово чада милого во чужих-то во землюшках, что во дальних, во украинных, у злодеев у неверныих?» И только так спросила я, как послало солнце вестника: – вдруг пахнуло на меня ветром буйныим на мою-то на белу грудь, на мое-то на ретиво сердце. И помчалась мысль моя быстрая, загуляла дума борзая во моей бедной головушке. Догадалась я, придумала, что прилетела ко мне скора весточка от моего сиротинушки. Верно попался, мое дитятко, он под пушки под чугунные, он под ядра начиненные прямь ему в буйну головушку, иль ружьем страшным в белу грудь, штыком вострым в ретиво сердце. Он упал ли на сыру землю, он на кровь ли на горячую; его скрыли, чада милого, что во матушку во сыру землю все чужие-чужестранние, не омыли лицо белое, не сняли платье кровавое. Ты катись-ка, горюча слеза, до моего чада милова, ты омой ему лицо белое, да его платье кровавое. Может, будет тое времячко, что у самого Христа, может, свидимся мы, встретимся в зеленом саду, чтоб узнать мне лицо белое да его платье военное».
Только самое начало, несколько первых слов, прошептала Прасковья, остальное договорила молодым, мелодичным голосом. Без затруднения, без запинки катились слова с языка ее, как катится с горы в долину звенящий, светлый ручей, родившийся где-то далеко в чистой поднебесной высоте.
Со двора щелкнула щеколда, отворилась и притворилась наружная дверь, потом уже в сенях послышались приближающиеся шаги.
«Кого-то Бог принес?» – подумала Прасковья и обрадовалась; ей тяжко было целый день пролежать, не видя человеческого лица.
Дверь в избу отворилась. На пороге кто-то появился, но так как уже начинало смеркаться, то Прасковья, приподняв голову с подушки, не могла сразу узнать, кто именно вошел.
– Кто там? – окликнула она.
– Свои, – отозвался низкий, контральтовый голос Катерины, и сама она, похудевшая, с толстым животом, быстро приблизилась к матери и нагнулась к ней с замерцавшими от радости глазами.
– А-ах, жаланная ты моя ластушка, голубка моя сизокрылая, моя горемычная доченька!.. – всплеснув сухими руками, воскликнула Прасковья, но от радости и горя ей перехватило горло, и она залилась слезами.
На лице Катерины мгновенно погас луч радости; оно потемнело, полные пересохшие губы задергались, и, упав головой на грудь матери, Катерина зарыдала. Она рыдала долго и глухо, подергиваясь всем телом. Старуха левой рукой гладила дочь по волосам, а правой крестилась, шепча молитвы и отирая свои слезы. Она и не думала утешать и уговаривать дочь; только тогда, когда рыдания Катерины перешли в тихий плач, она спросила:
– Ничего не приказывал, доченька?
– Языком-то не владел, мама, знать, отшибли... Перед смертью-то, как пришел в себя... все зубы у себя перешатал, мамыньку по лицу гладил... а на меня все глядел... глаз не спускамши... одним глазом-то глядел... другой запух... и слезы градом, и... за руку держал крепко... крепко... хотел видно, жаланный, что-то сказать да... языком не владел...
И Катерину снова начало подергивать от рыданий.
– А как я упала на пол и потом собралась уходить, говорю ему: «Не умирай, дождись меня, Ва нюшка... приду завтра», как он закричит так: «Ой-ой-ой; раз двадцать, пока я не вышла за дверь, все кричал и все на кровати-то бился... знать, не хотел без меня помирать-то...
– Жаланный мой, Иван Тимофеич, царство небесное, вечный покой, – задумчиво и горестно шептала старуха. – Не побеседуем уж больше мы с тобой, как, бывало, беседовали и как сладко-то беседовали... Какой хороший, да добрый, да ласковый был...
– Я и до кузней не дошла, а ён помёр.
– И до кузней не дошла?! ах, жаланный...
– Не успела дойтить... нет...
Бабы плакали.
– Батюшку-то приводили? – минуту спустя спросила Прасковья.
– Приводили. Ён не в себе был. Батюшка пошептал над им молитву, приложил крест к губам и больше ничего.
– Слава тебе, Господи, што хошь все справили...
Катерина отерла слезы и понемногу успокоилась. Наступило недолгое молчание.
– А ты, мама, все об ём, об Гаврилушке? Я иду под окном и слышу, причитываешь...
– Все об ём, доченька, все об Гаврилушке. Не забыть мне моего жаланного сыночка! Сперва-то взгрустнулось мне, доченька, все об тебе, жаланная моя, да об Иване Тимофеиче твоем. Ну, а все мои думы горькие об ём, об Гаврилушке-то зачинаются, да с им и кончаются. Целый день так-то лежишь одна-одинехонька, так чего только не надумаешь? Все вот так уйдут с утрия раннего на молотьбу и никто-то за целый день не наведается, не заглянет ко мне. Я не жалюсь, доченька, спаси их Христос, всем довольна, обиды от их никакой не вижу...
Она помолчала.
– А уж Гаврилушка-то не покинул бы так одну свою больную мамоньку, куска бы не доел, а уж урвался бы, прибежал бы разок-другой хошь на минуточку...
И старуха вдруг залилась снова горькими слезами, и хотя она только что говорила, что не жалуется на семейных за не-внимание к ней, на самом же деле это были слезы обиды.
– Жалел ён, сердечный, меня...
– Мы все жалеем тебя, мама...
– Да рази я в попрек говорю, доченька? Все вы меня жалеете, спаси вас Христос, да не так, как Гаврилушка...
– Гаврилушка больше всех жалел тебя, мама, это точно.
– И об чем я все плачу, доченька, об чем денно и нощно сокрушаюся, – тише прежнего, как бы в забытьи продолжала Прасковья, видимо растроганная участием дочери, – и на могилочку-то его не могу пойтить, не знаю, не ведаю, где зарыт мой сиротинушка. Я жалела его больше всех своих родных детушек, ведь получила я его трехнедельной крошечкой, своей грудью выкормила, выпоила, да бывало, как возьму его на рученьки, да как вспомню, что одна-то одинешенька эта крошечка на всем на белом свете... всем-то ён чужой, всем-то ён ненадобный, и так-то заболит мое об ём сердечушко, чуть што не разрывается, а как взглянет, бывало, на меня своими ясными глазыньками, да улыбнется, да протянет рученьки, совсем што солнышко в вешний день...
Уже совсем смеркалось. Бабы наговорились и наплакались досыта.
Катерина хозяйским глазом осматривала запущенную и загрязненную избу. В закоптелых бревенчатых стенах, проконопаченных паклей, зашелестели тараканы.
– Непорядок тут у нас, доченька, непорядок, – заметив критический взгляд Катерины, как бы извиняясь, сказала Прасковья. – И глазами бы не глядела круг себя. Хошь ты прибери, жаланная, а моей-то уж нету моченьки... Как колода лежу, касатая моя... На погост уж кости просятся.
– Постой, переложу тебя, а потом уже приберусь, – сказала Катерина, проворно поднимаясь с кровати.
Она, обхватив старуху под спину, приподняла ее, умело и быстро перебила свалявшуюся подушку, поправила соломенник и снова осторожно уложила мать.
– Какая ты худая, да легонькая стала, мама, ровно перышко. И приглядеть-то за тобой некому, как я от вас ушла. Совсем заброшенная. Может, съела бы чего?
Старуха от еды отказалась, а попросила пить чего-нибудь тепленького.
– Хорошо мне теперича, доченька, как у Христа за пазушкой, а то кости разломило все, – говорила умиленная Прасковья и, обернувшись лицом к образу, стала креститься.
Катерина, сбросив с себя мокрые платок и пальтушку, подвязала передник и, засучив рукава, затопила печь, развела самовар, наскоро подмела и притерла пол, потом напоила мать отваром малины и пошла доить коров.
III
овсем уже стемнело. На столе горела лампа, ярко освещая красноватым светом небольшой около себя круг, тогда как стены просторной избы, бо льшая часть печи, двери, закоптелый потолок находились в черной тени.
Дверь тихо-тихо и медленно, как от дуновения слабого ветерка, отворилась и так же тихо и осторожно, передвигая ноги в лапотках, вошел в избу древний, худой старец, кривой на один глаз.
– Тятя идет, – сказала Катерина и пошла ему навстречу.
Старику Петру считали уже давно за сто лет. Последняя дочь Катерина у него родилась, когда Пётра переживал авраамовский возраст: ему самому перевалило уже за 80, а его Сара жила шестой десяток лет. Женился он на Прасковье в крепостное время, уже будучи стариком-вдовцом, внесши господам невесты довольно крупный выкуп.
Старец свою меньшую дочь особенно любил и всегда называл «робенком».
– Здравствуй, батюшка, – громко приветствовала Катерина отца, как приветствуют людей, подверженных глухоте, и слегка кивнула ему головой. И в самом небрежном поклоне ее, и в невольно насмешливом выражении лица, и в тоне голоса Катерина выразила то снисходительное пренебрежение, с каким в крестьянских семьях относятся к старикам, уже потерявшим силу и которые считаются на положении лишнего рта, объедающего трудоспособных членов семьи.