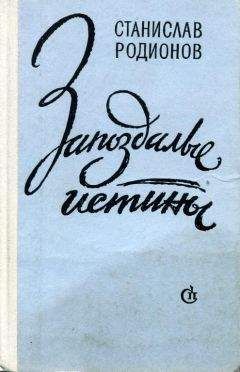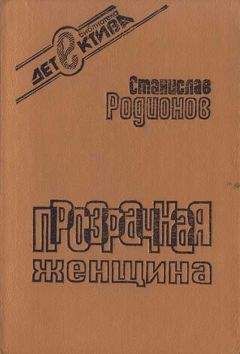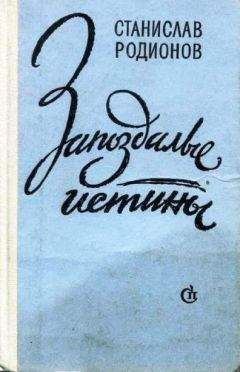Иван Родионов - Наше преступление
Егор огляделся и с той благодушной, полуиронической улыбкой, с какой все смотрели на бутыли, мотнул бородой в сторону священника и, чуть подмигнув, сказал:
– Ну, батя, чего ж? Тебе ближе. Благослови и зачинай.
Румяный батюшка, сытый, красивый мужчина лет 35-ти, с роскошными крупноволнистыми русыми волосами, тоже почему-то подмигнул, приподняв и опустив свои черные густые брови и разгладив белою пухлою рукою длинные сросшиеся с бородой усы, значительно крякнул, заворотил широчайшие рукава своей рясы, оглянул всех своими большими, серыми, пьяными глазами, потом откашлялся и густым басом протянувши полушутливо, полусерьезно «благослови Господи», взял обеими руками бутыль и принялся наливать водку в зеленые, толстого стекла, с рубчиками четырехугольные стаканчики.
Когда поминальщиками было пропущено стаканчика по два и глаза и лица замаслились и раскраснелись, избу наполнил гул голосов.
– Ну што, Иван Семенов, ведь знаешь, кто убил Ивана Тимофеева, скажи, ведь все равно этого не скроешь, – обратился священник к Демину.
– Што ж я знаю, батюшка? Я ничего не знаю, я пришел уж на готовое дело... уж когда все порешивши и от их след простыл, – буркнул Демин, опустив глаза вниз и водя ими по сторонам.
– Да где узнать? Рази будут мешкать? Не такое это дело, штоб мешкать. Сделали и ладно, поскорей уходи, – подхватил Иван Ларионов – отец одного из убийц, худой, длинный старик, с редкой, рыжеватой бородой на желтом, морщинистом, нездоровом лице. Еще в молодости он сорвал себе «пуп», и с тех пор всю тяжелую работу по хозяйству за него исполняла жена. Говорил он сипло, с перерывами и часто покашливал.
– Вот обнесли даром наших робят, – продолжал он. – Вот я своего Серегу под присягой пытал. Так ён перед образами божится – клянется, что пальцем никто из их Ванюху не тронул...
У стола, выйдя из стряпушной, с засученными рукавами остановилась Лукерья – жена старика Ларионова, которую за безграничное добродушие и готовность всякому и во всякое время бескорыстно услужить все любили, а за огромную физическую силу называли «баба-мужик».
– Ох, уж такие страсти взвели на робят, такие страсти... – заговорила она. – Уж я смучилась вся, как наших забрали, сумление на меня нашло, что они загубили хрестьянскую душу, и все-то начисто ноченьки напролет не сомкнула глаз. Лёгко ли? Грех-то какой! И Ивана Тимофеича-то, жаланного моего, так-то жалко. И думаю, ежели виноваты, пущай их угонят, хошь и сына моего. Што ж? Наделал такой беды, так и отвечай. А теперича, как гора с плеч. Может, другие кто и держали што на уме против покойничка, только не наш Серега. Ён не дракун у нас; ён драк-то пуще огня боится, а уж покойного Ивана Тимофеича жалел вот ровно брата родного, так его жалел, так жалел и теперь все плачет об ём. И вчера вот пришел немножко выпимши, – я плачу, а сама пытаю его: «Ежели ты сделал, говорю, повинись, не вводи людей в грех, а то, может, на других, на безвинных подумают». Как ён, Серега-то, ударится в слезы и говорит мне: «Мамонька, ну за што мы Ванюху убивать будем? Мы от его никакого худа не видали, и ён от нас никакого худа не видал», а я говорю: «Не верю. Вот поцалуй икону и заклянись, тогда поверю». А ён снял с божницы икону и поцаловал. Ну с меня все сумление и сошло тут-то, а то ведь ночи не спала, родимые, смучивши вся... хлеба-соли решилась, зачну жевать-то, а кусок-то так у меня тут, в глотке-то колом и застрянет...»
– А как же Федор Рыжов у следователя все рассказал, как убивали моего чадушку и как ён кричал: «Пустите, люди добрые, душу на покаяние... пожалейте жену мою и сестренку махонькую! Какое худо я вам сделал?» – прервала Акулина и всхлипнула. Последние слова она произнесла нараспев жалостливым голосом, как говорят причитальщицы.
– Это ён штобы самому выкарябкаться и наклепал на всех... Сам-то вылез, а наших-то ишь сколько продержали. Ён завсегда был хвост, хвост и есть, – сказал Пармён – дядя Сашки, рябой, кряжистый мужик, тот самый, что на успенских разговенах вязал и привешивал Сашку ногами к матице.
– Долго ли обнести безвинных людей! – продолжал Пармен. – А вот теперича и вышло не по его, не по Федькиному доносу. Следователь-то, значит, вник в дело и наших робят оправдал. Теперича им ничего и не будет.
– Да, как же ничего не будет? – вспылила Акулина. – Убили человека и ничего не будет, и так это и пройдет? Значит, убивай кажного, кого захотел, среди бела дня, при всем честном народе и ничего тебе за это не будет? Ишь какое дело!
– Ежели свидетелев не предоставишь, Трофимовна, ничего и не будет, – сказал староста – рыжий, веснушчатый, с хитрыми глазами и сладким голосом мужичонко.
– Да какой же дурак будет при свидетелях людей резать? Сам их нарочно позовет, што ли? «Посмотрите, мол, люди добрые, как буду людей резать». Ишь какое дело!
– Вот то-то и оно-то, – со скромной важностью разъяснял староста. – Закон, значится, так гласит, штобы свидетели беспременно присутствовали, тогда засудить можно даже с полным с удовольствием, а штобы без свидетелев засудить, – и он помотал головой, – этого никак нельзя. Уж эти дела нам хорошо известны.
– Кто е знает, на ком грех, – степенно и примирительно заметил дядя Егор. – Ежели бы сам мой племянничек встал хошь на часочек на один из гроба-то да указал бы, кто его жисти решил, кто его убивцы-то, ну тогда и мы узнали бы, кто они такие есть, потому перед смертным-то часом ён не покривил бы душой, не обнес бы занапрасно безвинных людей. За это ответ должон держать перед Богом. А то как узнаешь?
– Вот это правильно, вот это как есть, – одобрительно заговорили все мужики. – Ежели бы сам ён, то-ись Иван Тимофеич, встал бы сычас из гроба... ён бы не покривил душой, ён бы прямо и указал, кто евонные убивцы, потому ему сычас же перед Господом Богом ответ надо держать Перед смертным-то часом кривда не придет на ум, не-е... тут уж вилять не приходится. А мы што? Мы вот только языком нагрешим... наболтаем, наляскаем – сами не знаем што...
Демин, к концу обеда выпивший уже четыре стакана, в разговор не вмешивался и, умильно посматривая на бутыли, загадал, что если ему перепадет еще два стаканчика, то он при всем честном народе выложит правду-матку, если же не перепадет, то у него на такой подвиг не хватит «совести». Выдать же убийц ему очень хотелось, потому что день ото дня в его сердце накипала страшная ненависть к беспутным парням. К его огорчению, ему достался только один стаканчик, и потому он встал из-за поминального стола со вздохом, не высказавшись и очень недовольный собой.
Поминки кончились уже перед вечером. Присутствовавшие остались много довольны едой Акулины, насчет вина же находили, что она поскупилась маленько, надо бы еще хоть одну «четвертуху» поставить, тогда вышло бы совсем хорошо. Последними уехали свекор и свекровь замужней дочери Акулины. Авдотья с мужем остались у матери погостить на денек, а сватов Акулина проводила за околицу деревни.
Степан, увидев Акулину одну в поле, когда она, простившись со сватами, понурив голову, возвращалась домой, забросил за спину корзину и вышел со двора, направляясь на огуменок за соломой, хотя ему и не было в этом нужды. Встретив Акулину, он остановился и сказал:
– Не обидься, кумушка, што я не пошел к тебе на поминки. Верь ты мне, как души жалал помянуть крестника... вот как души жалал... да не подходило мне у тебя быть, а я уж сам от себя по конец жисти буду его поминать, крестника-то свово...
Крупная слеза скатилась по хрящеватому, с горбинкой, носу на косматую, густую, желто-бурую бороду Степана, и он, полуотвернувшись и глядя вдаль, добавил:
– И ежели тут мой Сашка причинен... на суде скажу, штоб в кандалы его заковали да в каторгу угнали бы...
Он плечом поддернул выше корзину и отошел прочь, но тотчас же полуобернулся и на секунду остановился.
– У меня на моего Сашку сумление, кумушка. Вот горе-то... Эх, хожу и себя не слышу... – Он махнул рукой и пошел прочь, уже не оборачиваясь.
Зато Палагея, мать Сашки, сразу же, как только арестовали ее сына, стала в непримиримо враждебные отношения к семье Ивана, и когда узнала, что Иван умер, то сказала: «Кол ему в душу такому-сякому! Сколько наши робяты натерпелись за его».
Часть вторая
I
Катерина хотя выходила замуж за Ивана и по своей охоте, но не склонность ее к молодому парню решила судьбу ее, а то обстоятельство, что семья Ивана жила хорошо, то есть достаточно, и жених ее был сам хозяин в доме, работящ, не пьяница. Мать Катерины, слывшая в народе вещею старухой, противилась этому браку, и не потому, чтобы Иван не нравился ей. Наоборот, она даже любила его за веселый, приветливый нрав, за уменье обойтись и поговорить с людьми и все-таки противилась этому браку.
– Будешь молодой вдовой, доченька, будешь. Вот чего я боюсь, – обмолвилась раз старуха.
В новой семье Катерина кроме привета и ласки ничего другого не видала, а муж и маленькая Маша буквально обожали ее, и все-таки дом мужа внутренно она не считала своим.