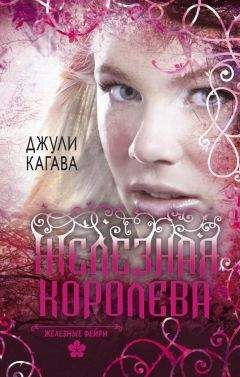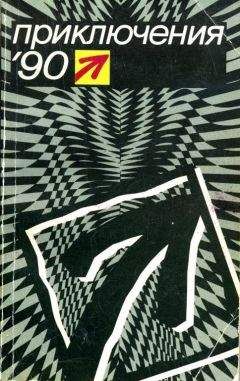Виктор Топоров - Жёсткая ротация
Поэма хороша, хотя местами вторична: так, например, мысль, выраженную в строке «он — Топоров — Белинский наших дней», не озвучивал разве что ленивый. Хорош и носовский комментарий, полный лукавого юмора, какой Шерлок Холмс приписывал доктору Ватсону. Мило и иронично оформление; особо хороша шутка, вынесенная на заднюю сторону обложки: непревзойдённый мастер курьёзного искусства анаграммы, то есть, если угодно, анаграмматист Григорьев назван здесь «аННаграМистом высшей категории». Смысл шутки в том, что анаграмма как раз и зиждется на перестановке букв в одном отдельно взятом слове. Не скажу вам, как у Григорьева дела обстоят с АННАМИ, а как с ГРАММАМИ — вы наверняка уже догадались сами.
Настоящее веселье начинается, когда гости уже разъехались. Написанная между двумя юбилеями (пушкинским и города) кулуарная поэма — наш ответ не столько Чемберлену (или там Бушу), сколько официозной глупости и чуши (тоже, знаете ли, умею в рифму), обрушивающейся и проливающейся на нас сверху — до юбилея, во время и после. Хорошо смеётся тот, кто смеётся в своей компании.
2003
На смерть магистра игры
Практически в один день ушли замечательный английский писатель Джон Фаулз и выдающийся отечественный учёный Михаил Гаспаров. В нынешней — англоцентричной — литературной ситуации первая утрата может показаться более тяжкой, хотя пик популярности Фаулза в нашей стране уже позади. Однако подобное впечатление ошибочно: Фаулз умер, но дело его — сложно-психологический и, в идеале, хорошо переведённый британский роман — живёт. Со смертью же Гаспарова уходит эпоха. Эпоха советской гуманитарной науки, понимаемой как высокое — хотя и не без некоторого лукавства — служение, и в этом смысле смерть на «отменённое» 7 ноября приобретает символическое значение.
До Гаспарова ушли Сергей Аверинцев и Юрий Лотман. С некоторыми оговорками в ту же когорту можно включить Ефима Эткинда, Натана Эйдельмана, Алексея Зверева, кого-то ещё — но их тоже нет. Живы, конечно, Вячеслав Всеволодович Иванов и мой однофамилец Владимир Топоров (Ушедший через три недели после Гаспарова) — но их влияние никогда не было определяющим. Выдающиеся учёные — пожалуй, но — в отличие от перечисленных выше — никак не властители дум. Самое поразительное в ушедших властителях — то, что занимались они, строго говоря, ерундой. Придумал «идею» и «структуру», чтобы не говорить о «форме» и «содержании» (а значит, со всей неизбежностью, и о «социалистическом реализме»), Лотман. Популяризировал поэтический перевод Эткинд и американскую прозу — Зверев. Занимательной историософией прославился Эйдельман. Изучал творчество Вячеслава Иванова (другого) и ранневизантийскую литературу, переводил целыми книгами Священное Писание — публикуя как памятники древней поэзии в Библиотеке всемирной литературы — и сочинял беспомощные стихи Аверинцев. Занимался древнегреческой басней, «обсчитывал» русское стихосложение (и обсчитал его всё), издавал символистов, переводил стихи прозой и публиковал «записи и выписки» Гаспаров.
Конечно, Аверинцев и Гаспаров были великими эрудитами. В отличие от полузнайки Эткинда и лишь понаслышке знакомого с современными ему течениями западной мысли Лотмана (о чём, в частности, не скрывая сожаления, отдающего презрением, говорил в Петербурге Умберто Эко). Один как медиевист, другой как античник, оба были вполне на международном уровне — хотя, возможно, и не более того. А главное, где мы, а где античность с медиевистикой?
Два главных труда академика Гаспарова, наряду с присущей им монументальностью, поражают ненужностью. «Метрический репертуар русского стихосложения» (то есть частотный словарь стихотворных размеров) ничего не объясняет, ничего не доказывает, а только — если ему поверить — всё бесконечно запутывает. Потому что на девять десятых (если не больше) поэт пишет чужими размерами, даже чужими ритмами — и значение имеют лишь то, как написаны 6–7 главных стихотворений, определяющих его творческую индивидуальность. Иногда даже одно — как «Ворон» у Эдгара По.
Скажем, одно из открытий, сделанных Гаспаровым в работе над русской метрикой (и то, которым он гордился особо), заключается вот в чём: оказывается, мы напрасно думали, будто трёхсложные размеры — конёк Н. А. Некрасова. Гаспаров доказал, что пользовался он ими не чаще, чем Пушкин. Доказал, «обсчитав» всего Некрасова и, соответственно, всего Пушкина. Но какой смысл в этом открытии — да и открытие ли это, — если Некрасов стал первым, кто написал трехсложником все свои главные стихотворения?
Перевод стихов — допустим, немецкого экспрессиониста Георга Гейма — прозой представляет собой ещё одно гаспаровское ноу-хау. Сперва он ещё в рифму перевёл вагантов, получилось точнее, чем у Льва Гинзбурга, только запомнили все и даже запели исключительно Гинзбурга. Прозой переводят стихи во Франции, прозой делают подстрочники не знающим языка оригинала поэтам с тем, чтобы они потом всё «перелопатили» в рифму; у Гаспарова как раз и получались подстрочники, но их печатали, рассматривая как шалость гения, и деланно восхищались, а Гаспаров верил льстецам — и переводил прозой дальше… Я бы мог продолжить этот перечень, распространив его на труды и дни Аверинцева, но здесь не стану.
Хорошими лекторами не был никто из них: тот же Гаспаров заикался, Аверинцев мямлил, Зверев через слово говорил: «значит, вот». И делами они занимались не запрещёнными, в самом худшем случае — полуразрешенными, так что политических коннотаций во власти над умами не было или почти не было. А сама по себе власть была… И я прекрасно помню восторг, охвативший меня, студента, при чтении первых книг Аверинцева и Гаспарова — и боюсь перечитать их, боюсь даже раскрыть. Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли… Не только несли — но и благоговейно воспринимали.
Всем героям этой статьи была присуща особая аура; она-то и превращала их во властителей дум в советское время. Потому что казалось: именно оно, советское время, заставляет их заниматься той ерундой, которой они занимаются, а вот не будь её, вот провались она в тартарары — они бы взорлили! Как писал тот же Эткинд, поэтический перевод расцвёл в СССР, потому что евреев не пускали в генералы и в дипломаты. Ни Аверинцев, ни Гаспаров евреями не были, да и вообще Эткинд всегда писал чепуху, но тем не менее. Это был тот же уговор интеллигенции с самой собою, который дал жизнь анекдоту о листках белой бумаги, разбрасываемых в качестве антисоветских листовок: зачем что-то писать, когда всё ясно и так? Если тебе всё ясно и так, ты ничего не пишешь, а смельчаком и гением считаешь того, кто пишет про американский роман или древнегреческую басню. Потому что на самом деле он пишет совсем другое… Это была «игра в бисер», описанная Германом Гессе, хотя рядовые участники воспринимали её как игру в солдатики, как игру в «потешные полки», которые рано или поздно возьмут власть и безжалостно подавят стрелецкий бунт.
В девяностые былым властителям дум представился шанс показать себя не такими, каковы они были, но какими восхищённому общественному взору казались. И, увы, кое-кто из них этим шансом не пренебрёг. Прежде всего, Аверинцев, сильно подружившийся с новой властью, подписавший позорное групповое письмо Ельцину с призывом утопить в крови «бунтарей-1993» и затем, разочаровавшись, удалившийся в добровольную эмиграцию в Австрию.
А вот Гаспаров остался тем, кем был, и продолжил с печальной невозмутимостью заниматься тем же, что и раньше. На мой вкус — ерундой, но столь проникновенно и последовательно, столь — не побоюсь этого слова — аристократично, что сами занятия эти следует рассматривать как «игру в бисер», причём не в России, а в Касталии. Впрочем, для Магистра Игры — всегда и везде Касталия. А Гаспаров был тем, кем он был, — не полководцем, не гением, не учёным, а Магистром Игры — последним Магистром великой Кастальской Игры.
2005
Нас деспот встречает прохладой
Связь политического и полового инакомыслия, которую мы рассмотрели на примере Ивана Баркова, прослеживается в жизни и творчестве Дмитрия Шостаковича, раздавленного психологически и чуть было не уничтоженного физически по выходе в «Правде» статьи «Сумбур вместо музыки», которую то ли написал, то ли надиктовал лично Сталин. В подвергшейся поношениям опере «Леди Макбет Мценского уезда» недоучившегося семинариста возмутила прежде всего разнузданная оргиастическая стихия животной страсти; даже не дослушав оперу до конца, Сталин в гневе покинул зал. И сказал соратникам (в пересказе Михаила Булгакова): «Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что, по-моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения».
Хотя, конечно же, наряду с личным вкусом в такой оценке, не говоря уж о последовавших оргвыводах, сквозила твёрдая политическая воля. Сталин укреплял советскую семью, изживая половую распущенность революционных и нэповских лет, — запретил аборты, осложнил процедуру развода, вернул в обиход уничижительное понятие «незаконнорождённый». Секс в СССР ещё был, но его предстояло (как и многое другое) искоренить.