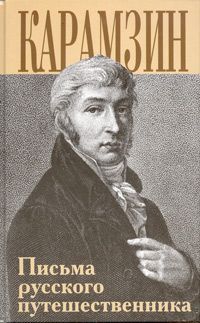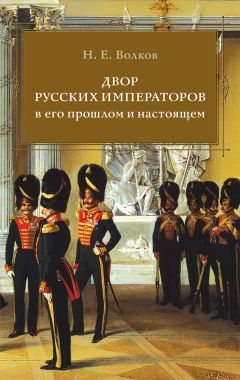Николай Февр - Солнце восходит на западе
Знакомые объяснили: это бывший рабочий. Стахановец. Перевыполняя нормы — потерял зрение. С тех пор ходит по дворам с гармонью. Я подумал сначала, что его выгнали на улицу условия жизни под оккупацией, неполучение пенсии, голод. Мне сказали, что он, время от времени, приходит под этот дом уже года три-четыре. А как же социальное страхование? Пенсия? Мне объяснили, что все это он, разумеется, получал, но жить мог на это одну — две недели. Остальное — покрывала гармонь.
Несчастный слепой стахановец, перешел на другую мелодию. Более веселую. Но звучала она еще более грустно. Маленькая девочка собирала, бросаемые из окон советские рубли. На них изображен другой стахановец. Здоровенный, веселый и… зрячий. По крайней мере зрячий — физически.
Однако, можно с уверенностью сказать, что среди советских рабочих все больше и больше становится и зрячих духовно. Многие из них уже хорошо поняли, что они сделали для советской власти и, что советская власть сделала для них. Лучшим доказательством этому служит то обстоятельство, что несмотря на все строжайшие приказы об эвакуации, огромное большинство днепропетровских рабочих, в дни войны, осталось на своих местах. Они остались в ожидании того, что война принесет с собой великие перемены и для всей страны и для рабочего класса. Их надеждам, на этот раз, не суждено было сбыться. Но это не значит, что они не будут столь же терпеливо ждать этих перемен в будущем. И нет никакого сомнения в том, что когда будет дан сигнал, большинство из них, вопреки приказам советской власти снова окажется по другую от нее сторону.
И когда поезд, унося меня из Днепропетровска, полз снова мимо кирпичного леса заводских труб, в моей памяти еще раз проплыли: старый слесарь Алексей Максимович, и похожий, и не похожий на Горького его сосед, рабочий социалистического государства, завидовавший судьбе своего безработного американского племянника, слепой стахановец с гармонью и грустными песнями и весь, копошащийся у этих труб, рабочий люд, вынесший на своих плечах революцию, гражданскую войну, индустриализацию и получивший в награду за это — нищету, полуголодное существование, крепостное рабство и бесплатный билет в опереточный театр.
XV. Поезд идет в Крым. Симферополь. К черному морю
Старожилам никогда нельзя верить. Об этом правиле я позабыл, когда послушался днепропетровских друзей и сошел в Синельниково, для пересадки на симферопольский поезд, именно на том вокзале, который они мне указали. Оказывается поезд шел как раз с другого вокзала. Результатом этого была бессонная ночь в Синельниково и знакомство с вокзальным сторожем Прохоровым. Первое оказалось столь же неприятным, сколь занятным — второе.
Прохоров увидел меня в зале ожидания, где, среди спящих, вповалку, на полу людей, я одиноко сидел на краешке чемодана. Опытным глазом старого железнодорожного волка он сразу выделил меня, как нездешнюю залетную птицу. Хотя сейчас, после дорожных скитаний, сделать, это не так просто. Непромокаемый, плащ мой давно уж так обтрепался, что днепропетровские милиционеры, говоря со мной, перешли на "ты", принимая меня, очевидно, за "своего". А к "своим", как я мог уже не раз убедиться, элементарные правила вежливости, блюстителями порядка, применяются здесь не всегда. Но милиционеры не видели моего чемодана, с пестрыми наклейками европейских отелей, а Прохоров его заметил. И сазу же спросил — не из заграницы ли я еду? И получив на это утвердительный ответ, принес сначала стул мне, потом — себе и под неровный аккомпанемент людского храпа, поведал мне о своей несложной, но единственной в своем роде жизни.
Прохорову — шестьдесят восемь лет. У него красное, морщинистое лицо, с неопределенной формы усами. Он маленький и говорливый. Из шестидесяти восьми лет своей жизни, он — пятьдесят прослужил железнодорожным стрелочником. Лишь года два назад он получил более спокойную должность вокзального сторожа. За всю свою жизнь он один раз был в Киеве и два раза в Харькове. Летом — в рубахе, зимой — в бараньей шубе, выходил Прохоров в течение пятидесяти лет к своей стрелке и переводил ее на нужное направление.
Какие только поезда не прошли мимо него за это время? Кто только в них не проезжал… Он пропускал особые поезда Александра III, Николая II, Столыпина, Троцкого, Деникина, Сталина, а уж об остальных сотнях особых поездов он вспоминает вскользь, с оттенком пренебрежения. Мимо него бесшумно пролетали сигарообразные пульмановские вагоны и со скрежетом ползли красные товарные коробки. В них проносились мимо него и блестящие мужи Империи и вшивое людское месиво времен гражданской войны. Шли эшелоны на японскую войну и на войну мировую. Красные ехали навстречу белым, белые — красным. "Упитанные наркомы мчались в Крым и на Кавказ, — висели на буферах несчастные граждане СССР. А теперь мимо него проходят поезда с германскими солдатами ("это уже второй раз", — философски замечает Прохоров) и впервые с румынскими и итальянскими.
В этих поездах полвека мимо Прохорова проносится история. История величественная и трагическая, жестокая и неуклонная. А он, равнодушный к ней, все поворачивает стрелку. И он, вероятно, не подумал о том, что он, маленький, никому неизвестный Прохоров, поворачивая стрелку, мог повернуть и историю. Объясняю ему свою мысль и в ответ на его проклятья по адресу коммунистов, насоливших чем-то и ему, спрашиваю полушутливо почему он не пустил особый поезд Сталина под откос?
— Да, что ж, — отвечает он, — это не наше дело. Это пусть другие делают. А наше железнодорожное дело точность любит. Уж кто там не едет, а мы должны в аккурат сделать. А потом, разве, мы знали, когда он самый-то едет? На другой день только и узнавали. Это не то, что царский поезд, — там за три дня наперед знали…
Под утро Прохоров принес даже чайку — "малость разогреться", А потом посадил меня на поезд и долго махал вслед заскорузлой рукой. Рукой, которая могла повернуть ход истории, а поворачивала только стрелку.
Запорожье, Мелитополь, Ново-Алексеевка… Поезд идет в Крым… И при этих словах я вспоминаю то, что на моем месте должен был вспомнить каждый русский человек.
Я вспоминаю Белую армию.
Не помню, кто сказал, что если бы не было Белого Движения, то это легло бы несмываемым позором на Россию. Ибо, это значило бы, что огромный народ с тысячелетней историей, блестящей интеллигенцией и доблестным офицерством, без малейшей попытки к сопротивлению, отдал себя во власть международным проходимцам. Быть может забытый автор этих слов выразил свою мысль иначе, но смысл ее был таков. И Белая армия этот позор смыла. Смыла своею кровью.
Я не вспоминаю ее сейчас в каком-либо историческом преломлении. Но сегодня, спустя двадцать три года, проезжая снова по полям, обильно политым кровью лучших ее представителей, я не могу не вспомнить те дни, которые были связаны неразрывно с нею.
Я вспоминаю нарядные толпы народа в Киеве и Одессе, дождь цветов, сыпавшихся на головы вступающих в город добровольцев, обязательный молебен на главной площади и трехцветные флаги на балконах домов. Я вспоминаю моих друзей кадет и гимназистов, марширующих в защитных гимнастерках, с разноцветными погонами, в примятых "обстрелянных" фуражках, звонкими голосами поющих:
"…Смело мы в бой пойдем
За Русь святую,
И как один прольем
Кровь молодую…"
А затем я вспоминаю те же защитные гимнастерки, с почерневшей дырочкой посередине, густо напитанные кровью. Той молодой кровью, которую они обещали пролить и которую пролили. И потом… Потом беспорядочные погрузки на пароходы, под шрапнельными очередями, в черноморских портах и уход от родных берегов, которых многим суждено было не увидеть больше никогда. В чем дело? Почему так случилось?…
— Эх, почему белые тогда не победили? Ничего бы этого не было… — говорили мне не раз теперь и в городах, и в селах.
— А почему вы их не поддержали? — вопросом на вопрос отвечал я.
— Да мы не знали, за что белые дерутся, — обычно отвечали мне.
"Глас народа — глас Божий", — говорили в старину. Они не знали за что белые боролись. Вот поэтому и шрапнельные очереди и погрузка на пароходы. В зарубежных изданиях, посвященных гражданской войне, привилось красивое выражение — "рыцари белой идеи". Оно правильно лишь наполовину. Рыцари были, а вот идеи-то — не было. "Против большевиков" это еще не идея. Народ который должен быть втянут в борьбу, должен знать не только против кого он борется, но и за что он борется. После разочарования двадцатого года, было много времени для раздумий по этому поводу. И когда настанет время снова поднимать русский народ на борьбу с большевизмом, это обстоятельство должно быть учтено как следует.
Что знают здесь о Белой армии, как ее вспоминают и какое к ней отношение? Много раз по дороге я получал ответы на эти вопросы. Белую армию здесь хорошо знают и помнят. И вспоминают ее хорошим словом с оттенком сожаления (почему не победили?). Хорошее, более чем теплое отношение и героический ореол сложились тут вокруг Белой армии. Эти чувства выросли на ненависти к большевикам и, значит, естественно вызвали духовную тягу к белым, как к их антиподу. Но есть и другое. Это тысячи невидимых родственных нитей, связывающих до сих пор многих живущих "здесь" с находящимися "там". Почти в каждом доме приходится слышать одни и те же вопросы: — "а такого-то за границей не встречали? Это мой брат…" "А не знаете ли жив такой-то? Это мой дядя…" Если миллион человек, связанных с Белым Движением, покинули когда-то родину, то это, по крайней мере, — три-четыре миллиона оставшихся тут родственников и свойственников.