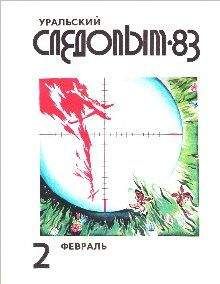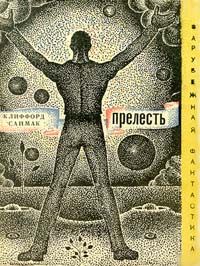Георгий Адамович - Толстой. Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года
Оттого-то он и не устареет, как бы стремительно ни сменялись одно другим литературные веяния — веяния, от которых, Боже упаси, боятся отстать писатели, инстинктивно чувствующие, что без этих подсказанных временем образов, тем и приемов в их сознании откроется пустота. Я не иронизирую: их опасения естественны, и нет ни малейшего основания смеяться над тем, что они находят издателей многочисленных и усердных читателей, возбуждают споры или возглавляют литературные школы. Но трудно сдержать улыбку, когда с высот своего эфемерного модернизма они со снисходительным признанием достоинств толкуют о книгах, в которых есть все, обо что должна бы рано или поздно разбиться их «тревога», их «inquietude», и есть еще многое, им и не снившееся.
Толки об устарелости «Анны Карениной» слышатся нередко, о чем я уже упомянул: мир будто бы обновляется, перерождается, технический прогресс ломает его социальное устройство, происходят важные, грозные события, мерцает неведомое будущее, а тут некая взбалмошная барыня, бросившая мужа и сына, решает покончить с собой из-за того, видите ли, что любовник, по ее мнению, недостаточно к ней внимателен. В былое, безмятежное время подобные происшествия могли казаться интересными и значительными, но не теперь… Что же, мир в нашу эпоху действительно перерождается, однако в истории Анны Карениной обновляться нечему, хотя бы описанный Толстым быт изменился до неузнаваемости или даже исчез. Никакого «второго плана», будто бы углубившего наше представление о жизни и о человеке, при сопоставлении с «Анной Карениной» в реальности нет, и кто внимательно перечтет несравненные — даже у Толстого несравненные – главы о самом начале и самом конце ее любви, согласится, вероятно, что едва ли не все наиболее прославленное, наиболее «новое» в литературе последних ста лет кажется рядом с ними произвольным, плохо проверенным измышлением и пахнет, как говорится, типографской краской.
При всесветной славе Толстого, при влечении к нему и признании Ясной Поляны чем-то вроде мирового морального центра возникла еще в прошлом веке и глухая неприязнь к нему, до сих пор не исчезнувшая. У русских, в частности у некоторых русских эмигрантов, эта неприязнь имеет особый, политический оттенок. Но и на Западе, где вопрос о роли, сыгранной Толстым в расшатывании былого русского государства, едва ли кого-нибудь волнует, отталкивание от него встречается нередко. Пожалуй, правильнее было бы сказать не отталкивание, а отмахивание: в деле, Толстой со своей духовной бессонницей как бы недостаточно милосерден или хотя бы снисходителен к людям и мешает им жить-поживать, не видя к этому никаких препятствий. В толстовском творчестве была радость жизни, правда постепенно слабевшая, но никогда не было беспечности жизни. А именно беспечность правит миром, даже теперешним миром, как будто мало дающим для этого оснований, и оттого присутствие Толстого, образ его, в нашей памяти сохранившийся, не только облагораживает, но иногда и утомляет, докучает. Соседство с ним для нас слишком невыгодно, и, судя по себе, иные люди заподазривают его в лицемерии, в стремлении покрасоваться, в потворстве ненасытному тщеславию, будто бы побуждавшем его держаться иначе, нежели большинство человечества, и обращать на себя общее внимание. Очевидная несогласованность его нравственных принципов со складом его жизни — Толстого измучившая и вызвавшая его уход — давала и дает до сих пор благодарную пищу для иронии. В огромной литературе о Толстом можно найти по этой части заявления истинно удивительные, вплоть до указания, что в искусстве саморекламирования Сергей Дягилев мог бы с пользой для себя взять несколько уроков у Льва Толстого.
На эти нелепости не хотелось бы возражать, тем более что людей, у которых «неприятие» Толстого коренится в ощущениях, напоминающих пресловутый упрек леонидо-андреевской проститутки по адресу расчувствовавшегося клиента — «как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?» — людей этих трудно было бы переубедить. Многое основано на плохом знании внутренней и внешней биографии Толстого, а иногда и на предвзято выхваченных, нарочито подтасованных данных в ущерб полноте. Случается, читаешь или слушаешь перечень таких отрицательных свидетельств и соглашаешься — нельзя не согласиться,— что они подлинны. Но легко было бы нарисовать картину фактически столь же точную, где вывод, однако, пришлось бы сделать совсем иной. Толстой был одним из сложнейших людей, когда–либо существовавших, и если задаться целью во что бы то ни стало подвести его образ под какую-либо схему, можно представить десять, двадцать Толстых, по-своему правдоподобных, но именно лишь в одной десятой или двадцатой доле соответствующих действительности. Он не был святым, и те, кто хотя бы и с лучшими намерениями святым его изображают, так же далеки от истины, как и те, кто считает его лицемером. В Толстом было все, что бывает в людях, он на своем веку побывал и Николенькой Иртеньевым, и Наташей Ростовой, и Брошкой, и Левиным, и Иваном Ильичом, и даже Хаджи Муратом — подобно Флоберу, сказавшему, что «мадам Бовари — это я», но с неизмеримо большей способностью перевоплощения, чем Флобер,— и это бесконечно противоречивое «все» он претворил, перемешал, перемолол, переплавил… нет, не до какого-либо иконописного благолепия в результате неустанной борьбы с самим собой, но до сознания необходимости окончательного очищения, просветления — и его недостижимости.
Будь для этого время, следовало бы остановиться на особенностях толстовского стиля, на его манере писать. Если верно, что «стиль это человек», то ключ к Толстому именно в его стиле, как и ключ к наиболее убедительному возражению на постыдную болтовню о комедиантстве или о Дягилеве. Никто не писал по-русски так, как Толстой. Смешно было бы применить к его языку эпитеты из обычного критического лексикона: «изящный», «блестящий», «красочный», «образный» и так далее, до ужасающего «сочный» включительно; язык Толстого, наоборот, часто чудовищен в своей тяжести, в безразличии к благозвучию, и все-таки, нет сомнений, никто никогда не писал по-русски так, как Толстой, потому что никто с такой силой не был одушевлен потребностью сказать то, что сказать надо, дойти до ума и сердца читателя, расшевелить его, потрясти, заставить читателя поверить, а вовсе не побудить его с одобрительной улыбкой заметить, «как он хорошо пишет!». В стиле Толстого, в насилии его над словом ради того, что больше слова, очевидна его органическая неспособность заинтересоваться чем-либо, кроме «самого важного», а кто по опыту убедился, что стиль (и ритм, конечно, как часть этого общего понятия) нельзя подделать, тот оценит и силу искренности, которая у Толстого этой одержимости сопутствует. Меньше кого-либо другого из великих писателей он был озабочен внешней привлекательностью слова — до того ли ему было, в самом деле! Но именно потому, что слово у него наиболее свободно от прикрас, оно в самом пренебрежении к ним наиболее чудотворно.
Не могу обойти молчанием вопроса, для многих русских болезненного, да и не стоило бы заводить о Толстом речь, если заранее решить, что вопросов сколько-нибудь острых предпочтительнее не касаться. К осторожности, к сглаживанию углов он отнюдь не был склонен сам, и размышления о нем к этому не располагают. Имею я в виду, конечно, ту «переоценку», которую после революции предприняли некоторые наши соотечественники в связи с более или менее настойчивым участием писателей прошлого века в разрушении русского государственного строя. Бедствия, разочарования, озлобление, растерянность, как известно, дурные советники, и наговорено было по этому поводу в эмиграции очень много несправедливого, близорукого и даже просто неверного, как, впрочем, и там, в России, с противоположными побуждениями, лжи и схематизма было не меньше. Суд требует беспристрастия, а для него время, по-видимому, еще не настало.
Однако признаем: иначе как называя черное белым, а белое черным, нельзя отрицать, что Толстой был непримиримым противником царского строя и сыграл значительную роль в его постепенном разложении. Это факт бесспорный, и люди, на этом основывающие свою вражду к Толстому, по-своему правы. Не правы они только в том, что ставят слишком поспешно точку, не додумывают своих упреков до конца,— трудно решить, сознательно ли стремясь к искажению истины или боясь увидеть то, чего видеть им не хочется. Бывает одно, встречается и другое.
Да, Толстой был врагом самодержавия, врагом русского правительства, врагом русских государственных порядков — как был бы противником любых государственных порядков, даже усовершенствованных, о чем сорок лет тому назад, в самом начале подобных «переоценок», красноречиво, верно и по тем временам смело говорил покойный Маклаков («Толстой и большевизм»). Всякая политическая попытка «аннексировать» Толстого бессмысленна, от какого бы режима она ни исходила: у Толстого была особая мораль, ни с какой государственной моралью не совместимая,— та, которую он нашел в Евангелии. Следует ли действительно считать Толстого христианином — вопрос двоящийся, и вполне понятны колебания тех, кто возражает, что в христианстве есть не только мораль, но и метафизика и что человека, отвергшего основные христианские догматы, Боговоплощение и Воскресение, назвать христианином невозможно. Есть, однако, и другой вопрос, столь же двоящийся: в какой мере имеют основание считать самих себя настоящими христианами те, кто за Толстым права на это не признает? Толстой принял в христианстве лишь часть его — мораль, но зато принял полностью, во всей ее неприкосновенности, другие, то есть огромное большинство, приняли будто бы все, но лишь «постольку-поскольку», сознательно идя на бесчисленные компромиссы, одно урезывая, о втором забывая, третье перетолковывая в соответствии с неумолимыми житейскими, общественными или государственными требованиями. Толстой принял евангельское «безумие», если еще раз вспомнить Цельза, и, как метко выразился Бердяев, предложил «рискнуть миром», посмотреть, что будет, если евангельской проповеди безоговорочно подчиниться.