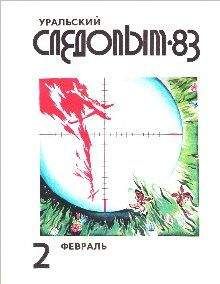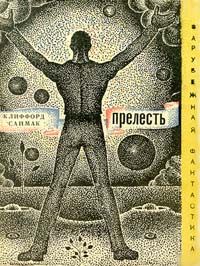Георгий Адамович - Толстой. Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года

Обзор книги Георгий Адамович - Толстой. Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года
Георгий Адамович (1892-1972)
Толстой
Речь на собрании в Париже 3 декабря 1960 года
Со дня смерти Льва Толстого прошло пятьдесят лет — срок как будто небольшой. Но эти пятьдесят лет оказались настолько переломными и тревожными, что могли бы войти в историю под названием «смутного времени» европейской цивилизации, да, пожалуй, и всего человечества. Притом конца «смутного» периода не видно, и этого нельзя не чувствовать; стоим ли мы в преддверии эры благоденствия и мира или хотя бы сравнительно большего благополучия, большей социальной и международной справедливости, ждут ли, наоборот, наших детей новые, неслыханные, никуда не ведущие бедствия и испытания, не знает по-настоящему ни один мудрец, а кто утверждает, что ему это известно на основании будто бы непреложных исторических законов, обманывает и себя и других. Никто не понял летом 1914 года, какое значение имеет сараевский выстрел, и если даже выстрел этот был мелким, случайным поводом к тому, что произошло дальше, а вовсе не истинной причиной происшедшего со всеми его неисчислимыми последствиями, никто не почувствовал необычайной значительности этих часов, поистине роковых для нескольких поколений. Все это достаточно известно, и не к чему об этом долго говорить.
Но, вспоминая великого писателя, который умер в годы, когда, казалось, старый мир, пусть и покряхтывая, и давая трещины, будет стоять еще долго, спрашиваешь себя: в какой мере он, Лев Толстой, до сих пор остается нашим спутником, нашим старшим другом и учителем, в какой мере он нам нужен, нам по-прежнему дорог, можем ли мы еще искренне сказать, что «без него нельзя жить», как он сам сказал это о своем любимом поэте Тютчеве?
Толстой был человеком духовно слишком бесстрашным и ко всякой лжи нетерпимым, чтобы можно было в размышлениях о нем ограничиться фразами о художественном наслаждении, о прелести созданных им поэтических образов и прочем в том же роде. Толстой во всем и всегда шел до конца, и этого же он требует от тех, кто хочет его понять. Лично для меня нет сомнений, что на только что поставленный мной вопрос — вопрос, который можно бы, в сущности, свести к одному: устарел ли Толстой как духовное явление, а значит, до известной степени и как художник, оказалось ли это явление при проверке временем не столь огромным, не столь окончательно застрахованным от всяких «переоценок», как нам казалось? – надо ответить отрицательно. Но я знаю, что многие наши современники склонны дать другой ответ, считая, что при всей своей гениальности Толстой в основных чертах принадлежит прошлому и должен быть причислен к ценностям скорей историческим, чем подлинно действенным. В наш век, говорят они, открылось кое-что такое, чего Толстой не подозревал и чего в человеческой душе не видел; поэтому в наш век — другие темы, другие устремления, другие, новые учителя. Да и нравственная проповедь его, после всех ужасов, которых век наш был свидетелем, будто бы утратила убедительность: у Толстого, иронически заметил недавно один довольно известный французский писатель, остались теперь в качестве последователей только те простодушные и, к счастью, редкие молодые люди, которые по религиозным убеждениям отказываются от воинской повинности. Для людей просвещенных, следящих за развитием культуры и в этом развитии участвующих, его религиозные писания не представляют интереса.
Надеюсь, никто не истолкует слов в том смысле, что я собираюсь Толстого защищать. Надеюсь, все согласятся, что подобная попытка была бы в крайней самонадеянности своей не только нелепа, но и комична. Моя задача другая: я хотел бы поделиться тем, что представляется мне несомненным, и по мере сил показать, что сомнения в данном случае основаны на заблуждении. Ответ на вопрос «Устарел ли Толстой?» лаконически и категорически дан в утверждении Чехова, что «Толстой никогда не умрет». Но к этому утверждению надо бы добавить несколько слов о единственности Льва Толстого как духовного явления — о той его единственности, цельности, несравненной, непрерывной серьезности обращенности к «самому важному» и какой-то игуменской властности в требованиях, предъявляемых людям, обо всем том, словом, что выделяет и возвышает его над другими русскими писателями, даже если и позволительно спорить — как утверждают некоторые,— кто более великий художник, он, или Достоевский, или Гоголь. Да и только ли о русских писателях следовало бы сказать то же самое? Конечно, были в последние столетия поэты и прозаики, которых в их области следует признать вершинами «абсолютными»: достаточно назвать хотя бы имя Гёте. У нас, русских, само собой возникает в сознании имя Пушкина. Но Пушкин — это другой мир, и без всякого колебания, хотя полностью учитывая то, чем все мы навсегда Пушкину обязаны, я скажу, что это мир, переход в который из мира толстовского похож на спуск и облегчение. О Пушкине, как всем известно, Герцен заметил, что творчество его было ответом России на вызов, брошенный ей Петром. Достаточно вспомнить эту фразу — один из редких в русской литературе примеров сочетания глубокой мысли и афористического блеска в ее выражении,— чтобы уловить то главное, что Толстого от Пушкина отличает. В самом деле, если Толстой был ответом России на чей-либо вызов, то Петр тут решительно ни при чем, и даже самое имя Петра, по праву «великое» в русской истории, при столкновении с Толстым сразу мельчает и кажется олицетворением сравнительно поверхностных, преходящих интересов. Пушкин — это русская империя, это русская культура в ее имперском, величаво-стройном преломлении, а Толстому ни до каких империй (и глубже — вообще до истории) дела нет, потому что он занят мыслями, которые до них родились и, наверное, их переживут. «Медный всадник» — истинно великое поэтическое произведение, но «Смерть Ивана Ильича» — нечто, переросшее подобные понятия, сжегшее их в своем пламени. Одно только имя можно назвать рядом с именем Толстого — имя Паскаля. Как бы ни были они психически, да и литературно различны, в творчестве и жизни обоих — то же устремление, тот же порыв, отблеск того же огня, и относящиеся, в сущности, к вечности слова Паскаля «il ne faut pas dormir pendant се temps-la» были в новые времена поняты и приняты к исполнению одним только Толстым.
Нельзя отрицать, однако, что Толстой во многом действительно связан с прошлым веком. Он как тяжелый груз тащит за собой этот век, не может с его наследием расстаться, и сложность его облика тем отчасти и определяется, что он настойчиво ищет согласия и гармонии черт непримиримых, ломая, опрокидывая встречающиеся препятствия. Я только что сопоставил его с Паскалем. Да, но это был Паскаль, оказавшийся современником Огюста Конта и решивший, что пора очистить веру от догматов и метафизики, пора отбросить сказки о чудесах, пора стать взрослыми. Однако самим собой Паскаль остался. Едва ли во всей русской литературе найдется страница более подлинно и мучительно религиозная, чем те строки из «Критики догм. богословия», где Толстой как бы убеждает Господа Бога отказаться от требования верить в то, чего человек не в силах понять: в данном случае от веры в догмат Троичности. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». Господи, ведь Ты сам создал меня, сам вложил в меня мой разум, зачем же Ты хочешь унизить собственное создание, то, которое помогло мне сделаться царем природы и позволило мне Тебя найти? Некоторые духовные лица возражали на эту страницу. Но никто из них, по-видимому, не уловил, чем продиктовано было мнимое богохульство Толстого и насколько тьма его отчаяния, пусть и рассудочного, была ближе к свету, чем иные благочестивые и благодушные рассуждения, где вера представлена делом легким, каждому при желании доступным, стоит только ходить в церковь и исполнять положенные обряды.
Противоречиями Толстой полон, и нужна была вся его внутренняя мощь, чтобы в конце концов их сгладить или даже раздавить, уничтожить. О том, какой ценой это ему досталось, рассказывает вся история его творчества, от «Детства» до «Воскресения». Не раз было указано, что Толстой, в противоположность Достоевскому, писатель скорее эпический, чем драматический. Это верно, поскольку речь идет о построении романов, но в развитии своем, в постепенном отказе от всего, к чему он был по природе предназначен, Толстой драматичнее кого бы то ни было, и не случайно самый конец его был похож на развязку драмы. Стефан Цвейг назвал его «богом Паном». От бога Пана не осталось к концу жизни Толстого почти ничего: голос его был заглушён, стремления и требования его были отброшены и осуждены как греховные.
Для понимания художественного творчества Толстого это черта самая существенная: борьба с материей, многолетняя тяжба с природой во всей ее полноте и финальное торжество над ней. За недостатком времени у меня нет возможности выделить художественные писания Толстого из того духовного целого, которое он собой представляет, да, пожалуй, это и к лучшему, так как распространенный, излюбленный литературными критиками прием этот большей частью приводит к искажению, к упрощению его облика. Толстой один и един во всем, что он писал и говорил. Однако в «Казаках», в «Войне и мире», в «Воскресении» с особой, неизменно усиливающейся наглядностью развертывается сущность его творческого дела, и если все согласны, что в романах и повестях Толстого есть какая-то совсем особая, гипнотически-убедительная правдивость, отсутствующая у других художников,— впервые это было подмечено Некрасовым, когда Толстой был еще совсем молод, сразу после «Севастопольских рассказов», — то несомненно объяснение ее именно в изначальном подчинении стихиям, в «приятии» их вместо их игнорирования. Толстой — реалист не в смысле принадлежности к известному литературному направлению, на смену которому рано или поздно приходит другое направление, а в значении глубоком, постоянном, прирожденном. Другие художники, даже гениальные, выдумывают, Толстой не выдумывает, Толстой находит — разница огромная, решающая; и кстати, сам Толстой частично указал на нее, говоря о Максиме Горьком, хотя мог бы сделать тот же упрек и писателям более значительным: «Все можно выдумывать, но только не человеческую психологию». Именно тут Толстой останавливается, придумывая, конечно, взаимоотношения, положения, случаи, происшествия, житейскую обстановку в своих романах, но не подменяя реальности своими домыслами о ней и всегда помня о непреложном законе жизни: о «взаимопроникновении» души и тела. Душа рвется из тела — об этом Толстой знал по опыту вернее кого бы то ни было. Но знал и то, что освобождение слишком легкое, «досрочное» остается эфемерным и призрачным и что иные вольные блуждания в надземном эфире, как бы метафизически-неотразимы они ни были, неизбежно оплачиваются горечью, как у пьяницы, на рассвете бредущего домой. Толстой правдив потому, что смел, то есть потому, что смотрит правде в глаза и не хочет никаких «снов золотых». Если есть слова, которые ему чужды, то именно такие, как сон, мечта, мираж, забвение, и самая поэзия возникает для него там, где забвению уже больше нет места и обман очевиден именно как обман.