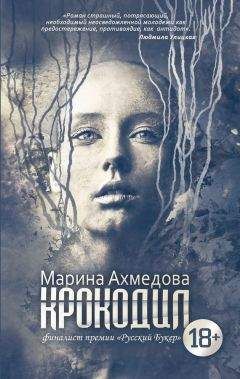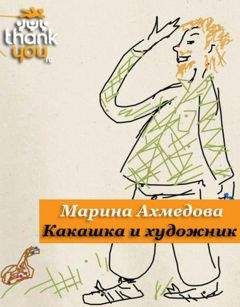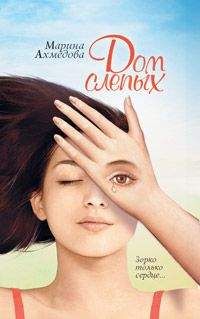Марина Ахмедова - Уроки украинского. От Майдана до Востока
— Тут у нас изолятор, — предупреждает медсестра. — Дети тут очень больные.
— А чем болеют? — спрашиваю.
— Своими врожденными заболеваниями.
Через стекло видна деревянная кроватка, в которой лежит ребенок с очень большой головой. Когда мы входим, он улыбается, скосив глаза к переносице. Смеется.
— Мама, ма-ма, — мягким голосом произносит он.
— Это мальчик-гидроцефал, — рассказывает медсестра. — Дима. Ему четыре года. Очень положительный ребенок. Но он не может сидеть, у него голова слишком тяжелая — перевешивает. Только крутится вот так по кровати.
— Он знает только одно слово, — говорит няня про Диму. — «Мама».
— Мать к нему приходит? — спрашиваю ее.
— Никогда.
— Откуда же он знает это слово?
— А это самое простое слово.
— Мама, — зовет Дима, когда мы выходим. — Мама! Мама-мама!
Сначала он произносит слово весело, мягко причмокивая губами, потом выкрикивает удивленно, грустно, но не требовательно. А потом оно сливается в сплошную ленту из двух звуков. Через некоторое время я снова заглядываю к нему. Раскинув ноги и держась одной рукой за рейку, а другой за желтого плюшевого мишку, ребенок напряженно смотрит в переносицу и молчит. Кажется, что он ничего не весит.
В следующем боксе женщины застывают над бледным мальчиком с носками на руках. Его шея выгнута, голова запрокинута, кожа отливает тепличной белизной, а светлые глаза удивленно распахнуты и смотрят в одну точку.
— Вовочка, — произносит нянечка, наклонившись. — Во‑ва… Он ведь тоже все понимает. И ласку понимает. Но не разговаривает. Совсем. Даже «мама» не может сказать. А носочки на нем, потому что ручки мерзнут. Он получает препараты, без которых не может жить. А больше для него ничего сделать нельзя. Да, Вова? Да?
— Раньше к нему приходили родители, — добавляет медсестра голосом женщины, не привыкшей к проявлению эмоций. — Но они из Славянска. С тех пор как там началось, не приезжали. А так бывали часто. Постоят, поплачут над ним и назад поедут. Он желанный ребенок. И первое время жил дома, но за ним же нужен постоянный уход и днем, и ночью. Работать невозможно. Ничего… они еще такие молодые. Может, другого ребеночка себе родят.
— Если они живы, — вставляет нянечка.
— Вы думаете, по вам не будут стрелять, увидев на ограде простыни? — спрашиваю я.
— Мы надеемся, что белые простыни вызовут у людей какие-то эмоции, — нехотя отвечает медсестра. — Но вообще-то я не думаю, что они кого-то остановят. Наши дети-инвалиды нетранспортабельны. Мы и сами не можем из-за них никуда выехать. Не можем одних эвакуировать, а других тут оставить.
— Они тоже граждане нашего государства, — показывает на Вову нянечка. — Не ввели же закон — умерщвлять таких детей. Я грубо говорю, простите. Так и что ж теперь? Сколько им отведено, столько пусть и живут. А если нет… то пусть это будет на их совести.
На прощание еще раз заглядываю к Вове. Оставшись в боксе один, он плачет. Плач его равномерный и невыразительный.
МамаВо дворе комендатуры дымится полевая кухня. Ходят вооруженные люди. Вход укреплен мешками с песком. Тут несут дежурство двое молодых мужчин с автоматами. Идет дождь. Я прошусь под навес. У входа под дождем остается худая костлявая старушка. Ноги ее в ядовито-зеленых резиновых тапках мокнут в луже. Она опирается на клюку. В руке у нее пакет, на котором нарисованы экзотические фрукты.
— Он получил пенсию в Донецке и поехал сюда, — просительным голосом говорит она. — Пошел к другу, а того не было. Вот его и задержали. Отпустите сына… Я места себе не нахожу, — она переминается с ноги на ногу, опускает руку в карман серого балахона и достает из него помятые записки, фото сына на паспорт, сердечные таблетки и несколько копеек.
— Покажите человека, — один из караульных наклоняется над ее ладонью, в которую капает дождь. — Его пьяного привезли.
— Да он не пьет! — спохватывается она. — Он у меня только курит. Отпустите его, ну пожалуйста. Я никуда без него не уйду. Буду тут стоять. Я из Славянска на маршрутке зайцем приехала. Денег у меня нет. Он пенсию должен был получить.
— Вас попросили до коменданта, — обращается ко мне выбежавший из штаба боец.
КомендантНа столе у коменданта разложена большая карта. В углу стола телефон, вентилятор. Прямо перед комендантом — раскрытая записная книжка, пачка сигарет и бутылка воды. Сам комендант, худощавый смуглый мужчина за пятьдесят, одет в камуфляжные брюки и футболку. Прямо за мной сидит крупный мужчина, на коленях у него автомат. За окном громыхает.
— Говорят, что вы российские наемники и криминальный контингент, — начинаю я.
— Скажу лично о себе. Я коренной краматорчанин, закончил военное училище, отслужил в советской армии, после увольнения вернулся сюда. Наемников в составе наших подразделений вообще нет, но есть добровольцы, прибывшие из Крыма и других регионов России. Только их мало. Процентов восемьдесят нашего личного состава — это коренные краматорчане и славянцы.
— Вам не страшно? — спрашиваю, когда за окном, закрытым белыми планками жалюзи, раздается мощный раскат грома.
— Мне страшно за своих ребят и мирных жителей. А еще у меня из чувств — масса негодования и злобы в связи с бомбардировками мирного населения. А страх за себя… Да нет, пожалуй. Я двадцать лет прослужил в армии, а с девяносто первого года моей профессией был бизнес-тренинг. Я психолог. Но сейчас чувствую себя в своей стихии. Моя задача — сделать из народной армии структурированную регулярную армию Донецкой народной республики.
— Вы обрели новый смысл жизни?
— Так точно, — улыбается он. — Это, конечно, плохо. Но я мечтаю сорвать условные погоны и вернуться к своей мирной профессии.
— Вы даете мне интервью. Сейчас я вас сфотографирую, ваше лицо появится в прессе, и дороги назад не будет.
— А ее и так уже нет. Я не боюсь фотографий. Кто меня объявит преступником? Киевская власть? Ну так она уже объявила.
— А если вы не добьетесь того, за что бьетесь?
— Добьюсь… В нашем деле «если» не предусматривается. Будем биться до конца. А конец — это победа.
— Вас могут посадить в тюрьму.
— В лучшем случае, — снова улыбается он. — Но это мы еще посмотрим, кто кого сажать будет. Вы говорите о будущем. Будущее… С точки зрения менеджмента его необходимо планировать. Ставить цели и добиваться их.
— И цель того стоила?
— Что?
— В вашем городе погибают люди, дети точно знают, что такое война.
— Знаете, ни одно действие, ни одно политическое или просто человеческое решение не оправдывает ни одной смерти. Тем более смерти ребенка. Оправданно ли наше сопротивление киевским властям? Не лучше ли было смириться? Знаете, я могу смириться со всем. Толерантность и компромисс — основа моих личных моральных ценностей. Но есть одно маленькое «но»: моя высшая ценность — интернационализм. Нацизм я не воспринимаю никак. Если есть хоть малейшая угроза его установления… даже если бы мне пришлось сражаться одному, я бы сражался. Вы бывали на Западной Украине?
— Только что оттуда.
— И я бывал в тех краях. Замечательные, образованные, культурные и приветливые люди. То, что с ними сейчас происходит, — хорошо спланированная политическая диверсия. Донбасс спал или сидел на диване, пил пиво — до последнего момента. И я сидел на диване и пил пиво. До мая. А потом мне стало стыдно, что я, офицер запаса, сижу на диване. Я проснулся. Кто-то проснулся раньше. Точка невозврата была пройдена — Одесса и Мариуполь. После них пути назад нет. Мое четкое убеждение: нынешняя киевская власть не имеет права на существование. И каждая смерть все более и более отрезает пути назад.
— Самый тяжелый день вашей жизни?
— Ну вот буквально только что. Когда погибли четверо моих ребят.
— Вы знаете, кем вас считают?
— Кем?
— Рабочим быдлом. И какая разница, больше вас на четыре или меньше? — сказав это, я поворачиваюсь к автоматчику, сидящему за моей спиной, и делаю ему знаки рукой — не нервничать. Тот улыбается.
— Я понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Но и вы поймите, что он слишком категоричен. Мы не смирились со своей бедностью. Хотя и смирившиеся среди нас есть. Везде есть люди, запуганные произволом силовых структур, элитой, которая по своей моральной и интеллектуальной сути яйца выеденного не стоит. Мы восстали не только против новой киевской власти, мы восстали против коррупции.
— А гибель бойцов нацгвардии для вас тоже трагедия?
— Конечно. Их гонят на эту бойню. Это гражданская война. С той стороны тоже наши люди. И вы знаете, что мне рассказывают ребята? Солдаты нацгвардии, чтобы не стрелять в наших, часто стреляют вверх… Не смотрите на меня с таким сочувствием. Я стойкий оловянный солдатик.