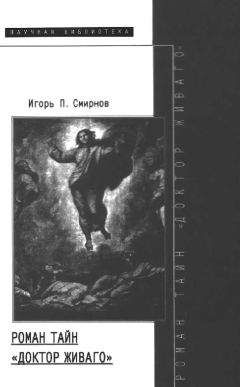Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
Вовсе не Ивинская добивалась встреч с властями, не она искала покровительства, а наоборот: ее вызывали, ей указывали, от нее требовали. Многие страницы мемуаров «В плену времени» надежнее читать в зеркальном отражении.
Объективно Ивинская оказалась настоящей находкой для КГБ – человек управляемый и пугливый, не вульгарный соглядатай и информатор, не какой-то пассивный статист, но эмоциональная, литературно одаренная активная участница лубянской разработки. При этом – с пылом сражающаяся за своего возлюбленного, искренне желающая, чтобы все кончилось миром.
Какие женские нервы выдержат быть попеременно – то в когтях властей, то в объятиях Пастернака!
В конце декабря 1957 на рождественские каникулы в Москву вновь приехала Элен Пельтье. Она рассказала Пастернаку о парижской встрече 12 декабря с Клемансом Эллером, Корнелисом Скуневельдом и Питером де Риддером и подтвердила, что план выпустить «Доктора Живаго» в «Мутоне», академическом и неполитизированном, по-прежнему жив. Пастернак откликнулся на это известие письмом к Жаклин де Пруайяр – не просто воодушевленным письмом, но, что называется, установочным. Изложенные ему Элен Пельтье сложности он великолепно осмыслил и предлагал свое решение щекотливых юридических вопросов. Перед нами первая, по сути, инструкция в истории тамиздата, универсальные правила для затяжной политической зимовки.
«7—10 января 1958, Переделкино
Дорогая, невыразимо дорогая Жаклин, (...) Не упускайте этой возможности, немедленно хватайтесь за нее. Убедите Ф<ельтрине>лли 1) чтобы сам он не сносился ни с кем из русских издателей за границей, чтобы он воздержался и не дублировал Ваших усилий. 2) чтобы согласился стать подставным лицом в будущих объяснениях по поводу тайны, каким образом подлинный текст (романа) попал в русское издательство. Пусть позволит представить дело таким образом, будто его рукопись была сфотографирована и распространялась среди издателей и переводчиков, и в конце концов он уже не мог помешать появлению оригинального текста неизвестно где. (...) Если можно издать русскую книжку в Голландии раньше, чем выйдут переводы романа, и это не будет противоречить юридическим правам иностранных издателей и их отношениям с Ф<ельтринелли>, пусть она выйдет чем раньше, тем лучше. Тут нечего тянуть, торопите дело, как только можно».
Хочется сказать: вот кто истинный подпольщик, вот кто Мальту-то выдумал! Издательского договора толком составить не умел, а в международных интригах понимал, не выезжая из заснеженного Переделкина.
И когда говорят, что отдав рукопись на Запад, Борис Леонидович как бы «освободился» от романа и не имел к дальнейшим событиям никакого отношения, когда утверждают, что деньги, слава, политический скандал, Нобелевская премия, борьба разведок, газетные инсинуации, контрабанда и ловля рыбы в мутной воде не имеют ничего общего с высотой Пастернака, с красотой его духовного мира и величием замыслов, – тогда хочется ответить: раскройте глаза, Пастернак сам, сознательно заварил эту кашу, не упустил ни одной возможности подтолкнуть и поторопить западных издателей и посредников, пытался мирить и сводить людей, от которых зависели его публикации, радовался далеким удачам и расстраивался от далеких неуспехов. Издательская история рукописи стала еще одним произведением Пастернака – чем-то вроде пьесы, поставленной режиссером, разлученным со своей труппой, которая, в отсутствии руководителя, начинает играть по собственному усмотрению и разумению – но, сбиваясь местами на импровизацию, не смеет все же отойти от общего замысла.
Насколько серьезно Борис Леонидович смотрел на надвигающийся политический скандал и готов был принять любую судьбу, видно по его решительным словам из письма к Жаклин:
«Достаточно ли хорошо понимает Г<аллимар> и основательно ли он осведомлен, что никакая возможная хитрость или двусмысленность, на которую в будущем меня могут вынудить косвенным давлением, не должны поколебать принятого им решения? Если ему предложат миллионы отступного, пусть знает, что непримиримая позиция и выход книги принесут ему в десять раз больше. Если его уверяют, что публикация романа грозит мне гибелью, пусть знает, что отсутствие публикации наверняка вызовет еще более страшную расправу» (7—10 января 1958).
Можно ли сильнее выразить свою волю? Эту черту в Пастернаке очень точно почувствовал Варлам Шаламов, написавший:
«Б. Л. далеко не вне политики. Он – в центре ее. Он постоянно определяет „пеленги“ и свое положение в пространстве и времени» (Шаламов. Пастернак, с. 626).
Если бы Фельтринелли, как и сам автор «Живаго», превыше всего ставил выпуск романа в оригинале, никаких дальнейших недоразумений не возникло бы. И Жаклин могла бы самым лучшим образом доказать свое умение выполнять поручения. Но русское издание для Фельтринелли вовсе не было вершиной мечтаний. Оно порождало сплошные проблемы – и политического характера (дальнейшая ссора с Москвой), и юридического (Фельтринелли, как ему много раз напоминала Жаклин, не владел правильной, вычитанной машинописью, а значит, вынужден был бы печатать другой текст – пруайяровский, что по закону требовало нового оформления прав), и финансового (русский тираж вряд ли мог озолотить).
И обо всем этом – взять и рассказать Пастернаку? Нет, Фельтринелли не был самоубийцей. Он продолжал сообщать в Переделкино только то, что было выгодно его издательскому дому.
Между тем, сходный план был у Пастернака и в отношении выхода за границей сборника своих стихов, обещанного в Москве и лежавшего безо всякого движения.
Из письма к Жаклин 7—10 января 1958 года:
«Пусть сборник стихов издадут под тем предлогом, что это копия книги, подготовленной в Гослитиздате два года тому назад; пусть утверждают, что эта книга по всей вероятности давно уже должна была появиться; что машинопись случайно попала в руки издателей и ее печатают без ведома автора».
Пастернак показал себя превосходно понимающим, какая политическая игра предстоит вокруг русского издания романа. В словах Бориса Леонидовича видно предвосхищение той этико-юридической полемики, которая сопровождала всю дальнейшую жизнь тамиздата 1960—1980-х годов: как издавать, если автор живет в СССР? Отмечать ли, что издание выходит «без ведома автора»? Кому в таком случае принадлежат права? Сможет ли писатель, при необходимости, доказать свое право на гонорар? Какие сложности возникают при уступке прав на перевод книги? Что делать, если запертый за железным занавесом автор не согласен с издательским заглавием, или сокращениями, или приводимыми о себе сведениями?
Все это в системе «самиздат – тамиздат» было еще не разработано, никто к концу 50-х с такими сложностями столкнуться не успел. Пастернак в этой области был первопроходцем. Но назревающие сложности он умел предвосхитить и думал о них, и, насколько было в его силах, заботился. Но утверждать (как это настойчиво делает сын – Евгений Пастернак), будто приключения рукописи и драматические взаимоотношения причастных к ней людей не имеют никакого отношения к автору романа, несерьезно. Пастернаковедение не существует без самого Пастернака. А многих людей Борис Леонидович сам вовлек в живаговский вихрь. Но если Банников, Ивинская, Переделкино, КГБ расцениваются некоторыми биографами как реальность, к которой присоединяют в последние годы и издателя Фельтринелли, то Жаклин, «Мутон», Брюссель и западные агенты такого статуса лишаются: их подают эскизно, двухмерно, а чаще всего замалчивают.
Схематически пастернаковский план сработал, но с обратным знаком: не Фельтринелли пришлось оправдываться за появление русского тиража, а «Мутону». Впрочем, мы забегаем вперед.
Все в том же письме (7—10 января 1958) к Жаклин Борис Леонидович еще раз ясно обозначил отношение к своим прежним вещам и соглашался издавать по-русски, помимо романа, только сборник избранных стихов с недавно написанным автобиографическим очерком в качестве предисловия. Все остальное, вышедшее из-под его пера за сорок предыдущих лет, казалось ему теперь лишенным мало-мальского значения.
И это же письмо – вернее, приложение к нему – закрепляло драму в отношениях двух исполнителей его авторской воли, миланца и парижанки. Жаклин не переправила по назначению следующую пастернаковскую записку:
«Милостивый государь,
я не знаю, когда мне представится другая возможность, чтобы высказать вам огромную признательность за Вашу ослепительную деятельность, объектом и очевидцем которой я оказался. Я восхищен осторожностью данных Вами интервью, Вашим бережным отношением ко мне, которое я ощутил в оформлении книги, преподнесенной мне немецким журналистом, великолепным переводом, который повсюду превозносят до небес. Если я тоже, в свою очередь, был Вам в чем-то полезен, хочу попросить Вас исполнить мое желание. Ваши издания так баснословно расходятся, что можно было бы пожелать увидеть мне свою работу напечатанной так, как она была написана, в оригинале. Иными словами, не мешайте мне отдать это деликатное дело (сопряженное, может быть, с обстоятельствами, гибельными для меня, как впрочем, и вся живаговская фантасмагория), в заботливые руки моего большого друга Жаклин де Пруайяр в Париже.