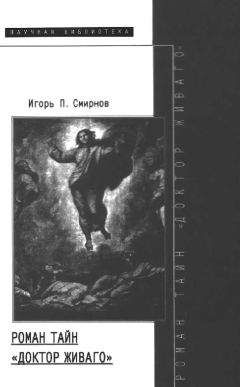Иван Толстой - Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» между КГБ и ЦРУ
В этом всегда была сила Пастернака. Именно передача зрительных восприятий всегда удавалась ему всего лучше и в стихах, и в прозе. Тут, в этой новой большой книге, несомненно лучшей и самой значительной из его книг, все искусство его обновилось, и этот его дар видеть и запечатлевать виденное получил то оправдание, то применение к высокой цели, которого ему раньше недоставало. Раньше этот дар восхищал нас сам по себе, теперь он служит чему-то большему. Юрий Живаго и любовь его Лара, и все друзья и недруги, окружающие их, и Москва, и Россия, и вся русская жизнь в первую четверть нашего века сквозь войну и революцию, сквозь нищету, голод и смерть, сквозь радость жизни и радость творчества, потому что Живаго – поэт, и его стихи составляют последнюю часть романа, все это оживает для нас, как еще не оживало ни в чьей другой книге. Все это мы видим, потому что, наконец-то, это начертано для нас свободно, без всякой оглядки на что бы то ни было, рукой подлинного мастера.
Я не всегда был безусловным поклонником Пастернака. В ранних его сборниках, прославивших его, меня коробила чрезмерная нарочитость в выборе слов, чрезмерная подчеркнутость некоторых приемов. Ранняя его проза – «Детство Люверс» или «Воздушные пути» – казалась мне слишком уж экспериментальной, слишком рассчитанной на определенный литературный эффект. Когда-то, много лет тому назад я написал о нем статью, довольно резкую в ее критических оценках. Быть может, слишком придирчивую к мелочам, но которая и сейчас не представляется мне в целом несправедливой. Теперь, однако, даже и о раннем периоде пастернаковского творчества я бы такой статьи не написал. В свете того, что он создал теперь, оправдано все, что он делал раньше. Никакой критик в будущем не будет вправе говорить о «Сестре мой жизни» или об «Охранной грамоте», не прочитав «Доктора Живаго». Тем нередко и измеряется величие художника, что вершин своего искусства он достигает далеко не смолоду.
Читая «Доктора Живаго», я не знал, чем больше восхищаться – глубокой человечностью всего повествования, где люди не делятся на белых и черных, где не абстрактные формулы судят жизнь, а жизнь осуждает все формулы и все абстракции, или же угадываемой сквозь перевод силой и точностью языка, чуждого теперь всяким внешним эффектам, но благодаря которому все, о чем говорится, как раз и становится для нас незабываемо живым. Я читал Пастернака по-итальянски. Книга его вышла в коммунистическом итальянском издательстве. Скоро она также выйдет по-английски, по-французски и по-немецки. Было бы горем для русской литературы, если бы не вышла она в самом скором времени и по-русски. После «Жизни Арсеньева» Бунина не было напечатано ни в России, ни за рубежом более замечательной русской книги» (Звуковой архив Радио Свобода, Прага).
Вскоре не только на радио, но и в русской заграничной печати стали появляться отклики тех, кто смог уже познакомиться с романом по-итальянски. 2 февраля 1958 года эмигрант второй волны дипиец Борис Ширяев, живший в Италии и свободно владевший языком, размышлял на страницах «Нового русского слова», какую жанровую характеристику правильно было бы применить к пастернаковской книге: «Публицистический памфлет, художественно оформленная политическая концепция, исторический роман, бытовая повесть?»
И приходил к выводу:
«...дифференцируя совокупность всех мыслей, всех чувствований автора, рецензент, помимо своей воли, размельчил бы, распылил бы стройный, гармоничный монолит, созданный писателем – прозаиком высшего уровня, быть может, тем, кто в дальнейшем будет причислен к классикам нашей эпохи и, во всяком случае, тем мощным, высоким художником слова и мысли, которые в период жесточайшего безвременья, при всестороннем напоре на них ждановщины, хрущевщины, ежовщины и прочих, созданных троглодитами мысли доктрин, сумели не только устоять, но противопоставить себя их напору, выразить в слове свое противостояние, свой протест».
Одним из первых читателей «Живаго» был профессор университета Беркли Глеб Петрович Струве. Во время своего путешествия по Европе летом 1957 года он в Лондоне на короткое время получил машинопись романа по-русски (вероятно, от оксфордских сестер Пастернака), но до выхода книги из печати писать о ней, разумеется, не мог. 9 марта 1958-го в «Новом русском слове» он отмечал в своей нерегулярной рубрике «Дневник читателя»:
«Кьяромонте считает роман поистине историческим событием. По его мнению, со времени „Войны и мира“ не было романа, который бы так широко и глубоко охватил и захватил русскую жизнь. Своим романом, по словам Кьяромонте, Пастернак показал, что „сознание правды, любовь к жизни, даже чувство надежды, наконец, – так же твердо и неколебимо, как во времена Пушкина – вера в литературное общение, остались нетронутыми в душе русского писателя“.
Не вдаваясь сейчас в подробности (в силу некоторых обстоятельств мне пришлось читать роман слишком наспех, а он заслуживает внимательного и повторного чтения), я бы сказал, что это одно из самых замечательных произведений русской литературы за последние 50—60 лет. В своей свободной глубине оно во всяком случае превосходит все, что дала советская литература».
И далее Струве впервые печатно предлагает отметить заслуги писателя:
«Я бы прибавил, что появление „Доктора Живаго“ в этом году на ряде европейских языков дает полное основание выдвинуть кандидатуру Пастернака на Нобелевскую премию по литературе. Присуждение этой премии Шведской Академией именно ему было бы актом символичным – достойным увенчанием подвига творческой свободы. Что Пастернак премии заслуживает, нет никакого сомнения: один из бесспорнейших современных поэтов оказался и большим прозаиком, автором не только интересных рассказов, но и замечательного романа, прекрасно написанного, сложного в своем контрапункте и, вместе с тем, и в каком-то смысле по-толстовски простого, свободного от всяких вычур – романа, продолжающего во многих отношениях традиции большой русской литературы».
Кажется, что Нобелевский комитет именно эти слова и взял для своей официальной формулировки пастернаковских заслуг, хотя, конечно, Альбер Камю и Андре Мальро были ходатаями куда большего веса. Глеб Струве, как подчеркнул недавно Лазарь Флейшман, высказался в пользу Нобелевской премии не после, а раньше западных обозревателей: редакционная статья американского еженедельника «Nation» вышла несколькими днями позже (Флейшман. Стэнфорд). В словах Глеба Струве были, впрочем, и опасные для судьбы Бориса Леонидовича тезисы. Ничем не стесненный калифорнийский рецензент переделкинского затворника не пожалел:
«Могут быть и есть произведения объективно контрреволюционные. Таким произведением, что бы ни говорил сам Пастернак, является его «Доктор Живаго». Верно, что это роман не политический, хотя он и касается «политических» тем. Но в нем заложена большая духовная взрывчатая сила. И не сказать этого мы не можем. В одной своей английской статье я недавно высказал мнение, что для того, чтобы «сохранить лицо», – а они сейчас очень об этом заботятся, – коммунисты, может быть, и выпустят роман Пастернака по-русски с тем, чтобы потом умело контролировать его распространение. Но, поскольку он дойдет до советского читателя (а тем более, если он дойдет до него тайно), он не может не сыграть роли контрреволюционного фермента. Намерение Пастернака и наше залезание ему в душу тут ни при чем».
На советском политическом языке это называлось: Пастернак льет воду на вражескую мельницу – вот и «белогвардейский критик» Струве подтверждает это.
Для перевода на французский язык машинопись разделили на четыре части. Луи Мартинезу досталась первая четверть, Мишелю Окутюрье – вторая, Элен получила третью, Жаклин – последнюю.
Окутюрье преподавал тогда русский язык в Тулузе, там и сел за перевод, продолжая работу в деревне у родителей около Ангулема в Юго-Западной Франции. Там же в Тулузе преподавала Пельтье. Мартинез и Жаклин еще задерживались в Париже.
Вчетвером встречались в великолепном особняке у Жаклин напротив Эйфелевой башни, вместе обсуждали перевод, из Медона приезжал дядя Коля, как его все звали, – Николай Иванович Гоголев, русский эмигрант военной поры, образованный человек, хорошо знавший и любивший литературу. Он помогал переводчикам в понимании некоторых недоступных иностранцам реалий русской жизни. Сорок послевоенных лет дядя Коля Гоголев преподавал русский язык в медонской школе Сен-Жорж, у иезуитов, под Парижем.
Окончив свою порцию, Луи Мартинез показал работу Альберу Камю, с семьей жены которого он был хорошо знаком еще по Алжиру. В своем дневнике Мартинез тогда же записал: «9-го февраля пошел к Камю и дал ему прочитать первую часть».
«Меня поразило его мнение о „Живаго“: он стал говорить, что терять надежду на советскую литературу никак нельзя, потому что, видите, что может вдруг появиться, несмотря на столько лет тоталитарной власти. На что я возразил ему, что Пастернак как человек и как поэт вырос задолго до революции и что он человек другого времени, дореволюционного.