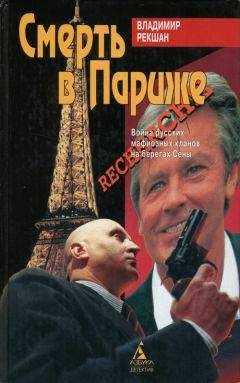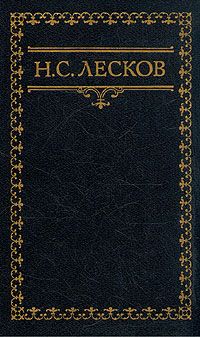Николай Лесков - Русское общество в Париже
Я уже молчу, чтобы не попасть в больное место; а генерал продолжает:
— Могу я гордиться, когда вместо того, чтобы дать человеку отступного тысячу, ну две тысячи рублей, ему дают генеральский чин! Он какое там ни на есть щипаное, да все-таки теперь превосходительство. Прав я или нет?
— Как же, — говорю, — не правы.
— Ну то-то и есть, а это чем кончится?
Я опять очутился в затруднительном положении, что отвечать; но генерал меня опять выручил. Не дожидаясь моего ответа, он начал:
— Вы не знаете, во время холеры в сорок восьмом году у нас был такой один генерал из профессоров. Шел он вечером из одного дома, да как, знаете, время холерное, он и того, нехорошо себя почувствовал на тротуаре… Ну понимаете?.. Ну-с, только а объездной жандарм на этот грех как нарочно и едет, увидал его да как гаркнет: «Что ты, говорит, за человек? чего ты тут уселся?» — да с этим хвать его своей рукавичищей по макушке, тот так на этом месте и плюхнул. Как он его по макушке-то хлоп, тот так и плюхнул. Нравится вам это?
— Помилуйте, — говорю, — что ж тут хорошего?
— Да-с! вот вам и генерал. Он обиделся, кричит: «Я генерал», а жандарм говорит: «Ну как не генерал! немало таких генералами называться станут! Пошел, пошел, говорит, в свое место, паршивец, а то сейчас в часть сведу на обрывке». Хотел жаловаться на жандарма; только все друзья и товарищи профессора отсоветовали. «Это черт знает что будет, сказали, такое дело заводить!» Вот вам и генерал, сам себя и замарал!
Старичок так и раскатился дробным смехом.
— Я вам серьезно скажу, — начал он через минуту, придавая своему голосу как можно более серьезности, — что это все кончится тем, что что-нибудь вспыхнет. Мой… как это… мой женин брат, брат жены моей, подавал статью, чтоб удержали этих писателей, чтоб того… Это знаете, был такой случай, что напечатали, что в Москве свадебные кухмистеры генералов на аренде содержат… Помните?
— Нет, — говорю, — не помню.
— Ну писали, что берут делать обеды с генералами или без генералов. По три целковых генералу платят, чтобы был вроде родства, для важности. А кто этому виноват? Правительство. Я по летам моим старый человек; но я против писателей ничего не имею. Что ж такое они делают? Они правду пишут. Мы их еще должны благодарить за это. Дочь Лена некоторые статьи в «Колоколе» мне давала читать. Что же я вижу в них: все правда. Настоящая правда! Все нехорошо, именно все нехорошо и беречь нечего, а правительство это тормозит. Ха-ха-ха! Само расшатало — и теперь тормозит. Тормозит? Нет, голубчики, поздно вам тормозить.
С литературою у генерала знакомство было, впрочем, самое поверхностное.
— А вы не слыхали об этом писателе… ох, как его? — спрашивает он меня однажды.
— Не знаю, — говорю, — о ком вы говорите.
— Да вот… новый еще… Ах, батюшки! очень, очень недурно сочиняет. Ах, да как же это его?.. фамилия-то?.. самая этакая еще простая фамилия. Ну новый! Ведь вы небось их всех знаете.
— Успенский? — спросил я.
— Нет, иначе.
— Помяловский?
— Нет, иначе; все иначе.
Я назвал еще несколько человек.
— Нет, все не те. Новый вот! Я у Елены Николаевны книжку взял: большая синяя книжка…
— Писемский? — спросил я, догадавшись по наружному описанию книжки, о ком идет дело.
— Писемский-с, Писемский. Вот именно Писемский. Экая штука какая!
— Да, это штука, — говорю я.
— Право. Как ведь это подъезжает подо все. Подите, ведь и у нас как писать-то начали!
— Что же говорю, хорошо? Нравится это вашему превосходительству?
— Да, ничего-с. Этак все критикует общество. Прежние вот эти Лажечников или Загоскин — я их, правда, не читал, — но они так не писали, как эта молодежь нынче пишет.
— Это, — говорю, — вы правы.
— Вы прочтите, пожалуйста.
— Непременно, — говорю, — прочту.
— Серьезно вам советую. Очень, очень оригинально.
— Вы что именно читали-то?
— Там это роман что ли какой-то. Очень оригинально.
— Вы согласны с тем, что пишет этот Писемский?
— Н-ну-с, это как вам сказать, все ведь критика; этого ведь не было. Мне только интересны эти молодые, начинающие писатели. Я вот тоже Марка Вовчка хочу прочесть. Видел я книжки с рассказами. Надо прочесть: я встречал ее, знаете, нельзя не прочесть. Знаете, даже как будто невежливо.
— Это правда, — говорю, — неловко.
— Подите, Марко Вовчок!..
— Что такое? Вот она женщина, вот она ходит, вот она бродит, одета в платье, шевелится, платье шуршит, как и у моей Натальи Ивановны или у Леночки, простудится: у нее насморк будет, точно как и у меня; а она писатель. Странно! неловко!
— Отчего же это, ваше превосходительство, неловко?
— Да так, как-то странно.
— Не вижу, что тут странного.
— Понимаете, у меня свой взгляд, и я говорю с моей точки зрения; а глядя au niveau du siècle[79]… разумеется, отчего же! Ведь вон Дурова была: кавалерист-девица; на коне, походы, бивачная жизнь «хоп-ля», марш-марш и равняйся. Да au niveau du siècle… военное время… ничего.
У генерала всегда были два взгляда: один собственный, по которому а плюс в было равно с, а другой — au niveau du siècle, пo которому то же самое а плюс то же в равнялось игреку или зету. Оба эти взгляда были ему одинаково доступны, и он о каждом предмете имел два понятия: собственное и au niveau du siècle, выводя из этой способности, что он человек вполне современный, т. е. со временем так думает, а со временем иначе.
Этот генерал был первый экземпляр размножившегося впоследствии до бесконечности вида нигилистов-крепостников, и я с любовью в него вглядывался, не воображая, что здесь, на родине, оставленной мною (говоря словами генерала) «в чаду крестьянского освобождения», такие экземпляры уже не только не невидаль, но даже и не редкость. С досады на «девятнадцатое февраля» у генерала все перемешалось в такой хаос, что уже никакими реактивами не удалось бы теперь разъединить в нем генерала от нигилиста, военного субординатора от яростного красного, замиравшего от сладостной мысли, что «в России, Бог даст, что-нибудь вспыхнет»; социалиста, аппробующего мнения Искандера, от крепостника. Черт знает, что это такое выходило, когда его наслушаешься, особенно тогда с непривычки еще, когда вовсе и не думалось, что нигилисты со временем засядут на большинство служебных кресел. Глядя на вещи au niveau du siècle, генерал терпел решение крестьянского вопроса, но только не такое решение, какое было постановлено правительством и Государем. Он находил, что освободить крестьян следовало без земли и что освобождение их с землею сделано несправедливо и беззаконно, а в глубине своей души он, конечно, держался того убеждения, что их и вовсе освобождать было не для чего. Он ничего так пламенно не желал, чтобы вернулись времена, когда он мог бы по праву генеральского чина распечь на чем свет стоит каждого этакого ррракалиона, рассуждающего о каких бы то ни было правах. Он непременно бы в двадцать четыре часа присудил к казни через повешение Искандера, и он же находил, что все, что делается в России, никуда не годится, и что только и остается, что «бить направо и налево», и что прекрасно было бы, ежели бы там в угоду крепостникам и нигилистам «что-нибудь такое вспыхнуло».
Этого почтенного отца семейства дополняло как нельзя более его семейство: жена, властолюбивая и придурковатая ханжа, и две дочери, одна полуидиотка, другая азартнейшая ярь, которая с матерью иначе не говорила, как «ты мать», и, чувствуя периодическое нездоровье, спешила всякому возвестить, что для нее наступили «тяжелые дни» и что она потому теперь не в духе. Впрочем, в духе в этом почтенном семействе, кажется, никто никогда не бывал, кроме самого генерала. Этот еще иногда бывало расшалится, но и то расшалится весьма своеобычно и опять-таки все мотаясь около 19 февраля.
— Что это, ваше превосходительство, у вас в передней совсем темно? — скажет ему кто-нибудь.
— Девятнадцатое февраля, — отвечает, растопыривая руки и улыбаясь, генерал, намекая, сколь его обидели 19-го февраля.
— Что это вы, ваше превосходительство, будто похудели? — спросит другой.
— Девятнадцатое февраля, — отвечает с комическою гримасою генерал.
Шли мы раз с ним по Елисейским полям, и пуговица у него от сюртука отлетела. Он ее сейчас поднял, посмотрел и, вздохнув, произнес с своей обыкновенной улыбкой: «Девятнадцатое февраля! некому и пуговицы стало осмотреть».