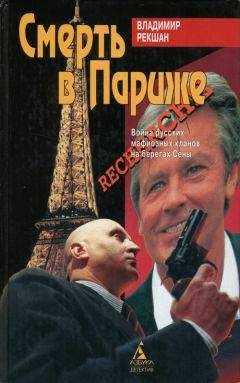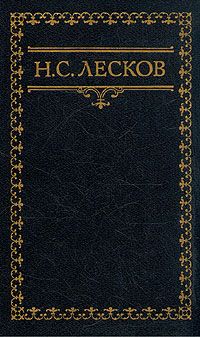Николай Лесков - Русское общество в Париже
Во время господского обеда зимою какая-нибудь Клара или Анета «делает камин», к которому все после обеда и усаживаются. Мужчины курят и скучают, женщины скучают, но не курят или тоже курят. К девяти или десяти часам дадут самовар, составляющий почти единственную русскую вещь в доме россиянина Елисейских полей. За чаем еще прибывает гостей: к этой поре, кроме русских, явится какая-нибудь рюмкообразная французская бородка, принадлежащая непременно какой-нибудь знаменитости. Елисеевцы и до сегодня страх как падки на знакомства с европейскими знаменитостями, и особенно с французскими. Но как ни Жюль Фавр, ни Эмиль Жирарден, ни другие, хоть меньшие, но все-таки сколько-нибудь замечательные личности не хотят наслаждаться вольнодумными беседами рязанских или костромских мыслителей, то наши бедные соотчичи, столь уважающие французские знаменитости, в наказание гордецам, подобным Жюлю Фавру, производят в знаменитости какого-нибудь кропателя водевилей, какого-нибудь фельетониста, врача кухонной прислуги его величества императора Наполеона или даже актерчика какого-нибудь бульварного театра. Помню, как одной нашей землячке обещали привести к ней Сарду. Тряслась она даже вся бедная, как бы ей не скомпрометироваться. И похвастаться-то ей хотелось, что у нее будет великий писатель, и обмирала она со страху, чтобы не набрели к ней соотчичи, особенно имеющие слабость рассуждать, да еще ломить, мешая французское с нижегородским. Но дело уладилось благополучно: великий писатель не пришел совсем.
Я не знаю, может ли чувствовать и выражать что-нибудь подобное хотя одна в России живущая поклонница русской литературы, если в салоне ее будет ожидаться даже хоть такой литератор, как г. Авенариус, которого где не знают по его произведениям, то и там (как сам он рассказывает) очень уважают за его красоту и ловкость? Не думаю; и ему, со всей его красотою, по моему мнению, могло очень везти только в Италии, где, как видно из его рассказа, теперь очень интересуются русскими литераторами и обращают на них крайнее свое внимание. Но у нас и таких гостей встречают довольно равнодушно.
Но возвращаемся на вечер к елисеевцам.
Наберутся к ним сюда разные господа и болтают, а толстые хрящи лопоухого славянского павильона сводят весь тонкий умственный сор в премудрые головы, и тупеют эти несчастные, праздные головы, и нудятся, «суетливо скучая», пока не придется им волею или неволею
из-за морей
Ни лучше, ни умней
Под кров домашний возвратиться.
В двенадцать часов, в час последних омнибусов, гости расходятся, и елисеевцы отходят ко сну, для того чтобы укрепить свои силы к предстоящему завтра повторению пустоты прожитого дня.
Из всех елисеевцев, которых я знал в Париже, об одном только доме я могу вспомнить с удовольствием и с почтением. Обыкновенных, ежедневных посетителей там было немного, и то все труженники и народ крайне небогатый. Но там всегда было очень приятно и порою неподдельно весело. Были вечера, после которых, бывало, хохочешь целый день. Такие вечера удавались, когда появлялись некоторые заветные личности с Champs Elysées.[78] Придет, бывало, барыня, из себя маленькая, дробненькая, а такой кипяток, что Боже ты Господи! Она все дебютировала в историческом роде. Чуть кто ей запротиворечит, она сейчас: «Ну так что ж! а знаете, что в Венгрии…» «Ну так что ж! а знаете, что в Польше… а знаете, что в Италии…» Все больше она болела гражданской скорбью по невежеству молодого поколения, и еще у нее гнил один зуб в сердце. Этот зуб было чадо с большим, но непризнанным литературным талантом. Очень догадливые люди рассказывают, что политическая секта русских матреновцев, о которой рассказывает в романе «Дым» И. С. Тургенев, основана этою именно кипяченою барынею и что она же сама повела матреновцев в Испанию, в подпиренейскую республику Андорру. Потом в елисеевском кружке зимою 1863 года встречался прелестнейший молодой человек, который был награжден от своего Создателя всем: ростом, дородством, умом, красотою и наследственной житницей; политики он не любил, а больше прилежал женщинам. Но надо и ему было о чем-нибудь убиваться «в сравнении с сверстниками» — он и убивался. Он самым серьезным образом убивался, что он не еврей и не может разделять судьбы этого гонимого народа. Далее часто являлся тут большой профессор, предобрейшая личность, но личность до того нескладная, что, глядя на него, всегда, бывало, подумаешь: «вот тот человек, у которого Гейне заметил две левые руки и ни одной правой». И, наконец, еще бывал молодой, очень благовоспитанный кандидат Петербургского университета, которого оригинальнейший генерал К. почему-то считал вечно поляком и чуть, бывало, завидит его, сейчас за пуговицу и спрашивает: «А скажите, пожалуйста, что это за странность, что поляки бунтуются?»
— Не знаю-с, не знаю. Я уже не раз говорил вам, что ничего о польских делах не знаю, — отвечает ему кандидат.
— То-то, странно как-то! — продолжает генерал в раздумье. — Им теперь не в пример лучше, а они бунтуются.
Бедный кандидат, бывало, не знает, куда ему спрятаться от вечно неизменных вопросов, получаемых им в качестве поляка к непременному разрешению. Генерал был очень маленький человечек, с очень маленьким личиком. Он был в летах, но ходил очень бодро, петушком. В доме, о котором я говорю, им иногда тяготились: надоедал уж он действительно. Меня генерал удостаивал особенного внимания за мои обширные, по его мнению, сведения о России. Это лестное мнение я приобрел себе, рассказав ему в феврале 1863 года новость, что вскоре после уничтожения крепостного состояния безднинские мужики несколько не поразумелись с февральским манифестом. За эту новость генерал, проживающий, по желанию своей супруги, пятый год в Париже, считал себя обязанным платить мне тою же монетою и, навещая меня, всегда приносил самые оригинальные новости. Так, например, раз застает меня генерал в постели.
— Спите? — спрашивает он, бесцеремонно влезая в дверь моего единственного покоя.
— Нет, ваше превосходительство: так только ленюсь, — отвечал я, узнав круглый генеральский голос.
— А я шел, да и зашел. Думаю, надо земляка проведать.
Мы с генералом оба в одной воде крещены и даже записаны в одну дворянскую родословную книгу.
— Отлично сделали, — говорю, — ваше превосходительство. Только вот досадно, что я заспался долго. Вы извините.
— Пожалуйста, и без церемоний и без превосходительств!
— Как же, — говорю, — этого долг требует чину вашему превосходство отдать.
— Полноте, пожалуйста, какое превосходство, когда нынче уж черт знает кого генералами делают. Это не прежние времена, а нынче мальчишки генералы… Не отдернуть ли вам ридό?
Генерал очень любил вставлять в русскую речь французские слова.
— Будьте так любезны, — говорю, — отдерните.
Генерал осветил мою комнату, отдернув тяжелые, густые занавесы. Я стал одеваться, а генерал сел по-кавалерийски верхом на стул и начал стукать об пол пятками.
— Генералы! — проговорил он. — Генералы? Какие это генералы? Это енаралы, да и не енаралы, а капралы-с! Именно капралы! Что это такое, я вас спрашиваю? На что это похоже все делается? Извините меня, я, может быть, очень глуп, но я ничего этого не понимаю. Я сам об этом говорю и сам, о чем говорю, того не понимаю. Я имею внучат, я принадлежу к старому поколению; но я понимаю, что мы все равны. Девятнадцатое февраля, понимаете, нивеляция — ну и все равны: я Василий Северьяныч, и мой Васька, который дома остался, тоже может думать, что и он Василий Северьяныч. И я это понимаю и подчиняюсь: демократия, так демократия. Но там делают не демократию, а кавардак-с! Да-с, кавардак. — Генерал привскочил со стула, приставил ко лбу указательный палец, и произнес с ажитациею: — Учителю, который зверьков описывал, генеральский чин дали! Да-с, да, я сам читал, так и напечатано: «За сокращением штатов, увольняется от службы с чином действительного статского советника бывший преподаватель зоологии такой-то!» Что же это! я вас спрашиваю, что это: «плетьми да на выпуск», что ли, как в старину писали, а? Вон из службы профессоришку, да генеральский чин ему в награду! — Генерал вовсе вскочил с места и, приложив себе к груди обе ладони, воскликнул: — Могу ли же я после этого гордиться своим генеральством?
Я уже молчу, чтобы не попасть в больное место; а генерал продолжает:
— Могу я гордиться, когда вместо того, чтобы дать человеку отступного тысячу, ну две тысячи рублей, ему дают генеральский чин! Он какое там ни на есть щипаное, да все-таки теперь превосходительство. Прав я или нет?