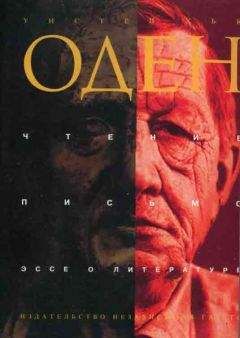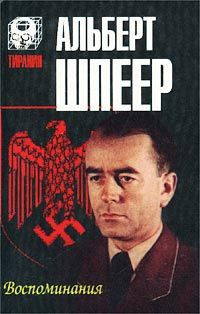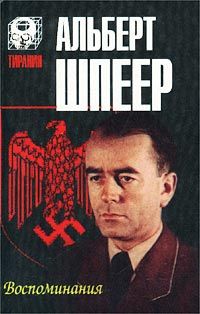Уистан Оден - Стихи и эссе
VESPERS
Несмотря на то, что холм, возвышающийся над нашим городом, всегда был известен как Могила Адама, только с наступлением сумерек ты можешь увидеть возлежащего гиганта, с головой повернутой на запад и правой рукой опирающегося на ляжку Евы [225]
по тому, как горожанин смотрит на эту вызывающую пару, ты можешь определить, что он реально думает о своем гражданстве,
также, как сейчас ты можешь услышать в кошачьем концерте пьяницы его мятущуюся печаль, рыдающую по родительской дисциплине, а в его похотливых глазах ощутить безутешную душу, отчаянно высматривающую под проплывающими мимо конечностями след ее безликого ангела, который в том далеком прошлом, когда желание могло помочь, соорудил ее и исчез:
Ты можешь снабдить Солнце и Луну соответствующими масками, но в этот час гражданских сумерек все должны носить свои собственные лица.
И это означает, что наши два пути пересекаются.
Оба одновременно узнаем свои Антиподы: то, что я из Аркадии [226] и что он из Утопии [227].
Он с презрением смотрит на мой живот Водолея: я замечаю, в ужасе, его Скорпионов рот.
Он хотел бы видеть меня, чистящим отхожие ямы: я бы хотел, чтобы он убрался к другим планетам.
Оба молчим. Каким опытом нам делиться?
Разглядывая абажур на витрине, я замечаю то, что он спрятан от глаз покупателя: он же рассматривает его, как слишком дорогую покупку для крестьянина.
Проходя мимо рахитичного ребенка трущоб, я отворачиваюсь: он отворачивается, проходя мимо круглолицего крепыша.
Я надеюсь, что наши сенаторы уподобятся святым, подразумевая, что они обойдут меня лично реформами: он надеется, что они будут вести себя как baritoni cattivi, и, когда в Цитадели горят поздние огни, я (который никогда не видел полицейский участок изнутри) потрясен и раздумываю: "Если бы город был так свободен, как они о нем говорят, то после захода солнца все его конторы превращались бы в огромные черные камни":
Он (которого лупили несколько раз) совершенно спокоен, но тоже подумывает: "В одну прекрасную ночь и наши ребята будут там работать".
Теперь ты видишь, почему между моим Эдемом и его Новым Иерусалимом ни о каком договоре не может быть и речи.
В моем Эдеме человек, не любящий Беллини [228], обладает достаточно хорошими манерами, чтобы не родиться: в его Новом Иерусалиме человек, не любящий работать, пожалеет о том, что родился.
В моем Эдеме есть несколько коромысловых двигателей, локомотивов с седлами, водяных колес и немного других образцов устарелой техники для потешных игр: в его Новом Иерусалиме даже хладнокровные, как огурцы, повара интересуются машинами.
В моем Эдеме единственный источник политических новостей — слухи: в его Новом Иерусалиме издавался бы ежедневный вестник с упрощенным правописанием для слабо владеющих языком.
В моем Эдеме каждый исповедует принудительные ритуалы и суеверные табу, но никак не мораль: в его Новом Иерусалиме опустеют храмы, но, при этом, все будут исповедовать рациональную добродетель.
Одна из причин его презрения — это то, что стоит мне закрыть глаза, свести железный мостик к переправе, пройти на барже через короткий кирпичный тоннель, и я снова в моем Эдеме, где рожками, доппионами и сордумами [229] приветствуют мое возвращение веселые шахтеры и староста Кафедрального (римского) Собора Св. Софии (Die Kalte) [230]:
Одна из причин моей тревоги — то, что когда он закрывает глаза, то прибывает не в Новый Иерусалим, но в один из августовских дней насилия, в котором дьяволята прыгают в разрушенных гостинных комнатах, и потаскухи вмешиваются в дела Парламента или
в одну из осенних ночей обвинений и казней через утопление, когда раскаившиеся воры (включая меня) уже взяты под стражу, и те, кого он ненавидит, начинают ненавидеть самих себя.
Таким образом, отводя взгляд, мы перенимаем позы друг у друга; уже удаляются наши шаги, ведущие каждого из нас, неисправимых, к своей трапезе и к своему вечеру.
Было ли это (как это может показаться любому богу перекрестков) просто случайным пересечением жизненых путей, лояльных и не очень выдумок
или, также, рандеву сообщников, которые, вопреки самим себе, не могут отказаться от встречи,
чтобы напомнить другому (оба ли, в глубине души, желают знать правду?) о том, что половина их секрета, о котором каждый из них мечтает позабыть,
заставляет обоих на долю секунды вспомнить свою жертву (но для него я мог бы позабыть кровь, а для меня он позабыл бы невинность),
на приношении которой (назови ее Авелем [231], Ремом [232], кем угодно, все одно Приглашение к Греху), одинаково основаны аркадии, утопии и дорогой нам старый мешок демократии:
Без цемента крови (обязательно человеческой, обязательно невинной) не выстоит ни одна светская стена.
COMPLINE
Сейчас, когда желание с желанным
Не привлекают прежнего вниманья,
И тело, шанс используя, сбегает
По органу, частями, чтобы слиться
С растениями в девственном их мире,
Найдя его по вкусу, день последних
Поступков, чувств из прошлого уже,
Мгновение грядет воспоминаний,
Когда вокруг все обретет значенье:
Но вспомню я лишь хлопанье дверями,
Хозяек брань и ненасытноcть старца,
Завистливый и дикий взгляд ребенка,
Слова, что подойдут к любым рассказам,
Но в них я не пойму сюжет, ни даже
Смысл; припомнить не смогу деталей
Происходившего меж полднем и тремя.
Со мной теперь лишь звук — сердечный ритм
И чувство звезд, кружащих на прогулке,
Они беседуют на языке движений,
К нему я лишь примериться способен,
Но не прочесть: на исповеди сердце,
Сейчас, быть может, сознается в том, что
С полудня и до трех случилось с нами,
Наверняка созвездия распелись
В веселье буйном далеко отсюда,
От всех пристрастий и самих событий,
Но, зная, мне не ведомо их знанье,
Что следует мне знать и, презирая
Воображенья прелюбодеянье,
Тщету его, позволь, благословляя
Теперь их за помилованья сладость,
Принять сейчас и наше разделенье.
Отсюда шаг меня уводит в грезы,
Оставь меня без статуса средь темных
В невежестве его племен желаний
Без танцев, шуток, тех, что практикуют
Магические культы, чтоб задобрить
То, что за эти три часа случилось,
Тех, что скрывают странные обряды,
Спроси их молодежь, в лесу дубовом
Пытающую белого оленя —
Ни слова на угрозы, взятки, значит
Былая ложь есть шаг до пустоты,
И мой конец, как и для городов,
Есть полное отсутствие: ведь то, что
Приходит быть в небытие вернется
Лишь ради справедливости и ритма,
Что выше меры или пониманья.
Могут ли поэты (могут ли люди на телеэкране)
Спастись? Не легко нам верить
В неведомое правосудие
Или молиться во имя любви,
Чье имя позабыто: libera
Me, libera C (дорогая С)
И все бедные сукины дети, у которых
Все всегда валится из рук, пощадите нас
В самый молодой из дней, когда все
Пробуждаются от толчка, факты есть факты,
(И я точно буду знать, что случилось
Сегодня между полуднем и тремя)
И мы тоже сможем придти на пикник
И, ничего не пряча, войти в круг танца,
Двигающегося в perichoresis [233]
Вокруг вечного дерева.
LAUDS [234]
Пернатые в листве поют и вьются,
Кукареку! — Петух велит проснуться:
В одиночестве, за компанию.
И будит солнце смертные созданья,
К мужчинам возвращается сознанье:
В одиночестве, за компанию.
Кукареку! — Петух велит проснуться,
Колокола — дин-дон! — к молитве рвутся:
В одиночестве, за компанию.
К мужчинам возвращается сознанье,
Храни, Господь, людей и мирозданье:
В одиночестве, за компанию.
Колокола — дин-дон! — к молитве рвутся,
По кругу жернова в поту несутся:
В одиночестве, за компанию.
Храни, Господь, людей и мирозданье,
Цветущее в предсмертном ожиданье:
В одиночестве, за компанию.
По кругу жернова в поту несутся,
Пернатые в листве поют и вьются:
В одиночестве, за компанию.
1949–1954