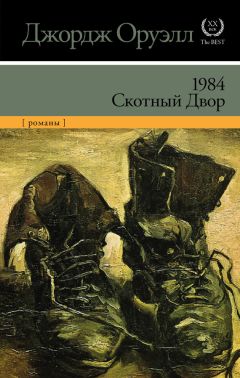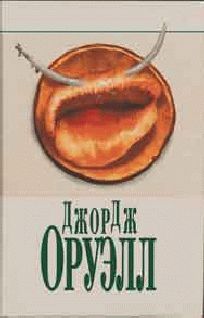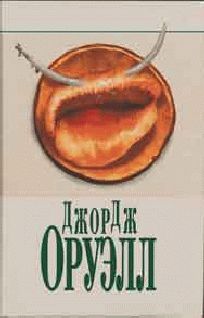Элиас Канетти - Человек нашего столетия
Об этом берлинском времени можно сказать бесконечно много, и сейчас я, в сущности, не говорю ничего. Единственное, о чем бы мне хотелось сегодня упомянуть, касается противоположности между Берлином и Веной. В Вене я не был знаком с писателями, я жил одиноко, и так как все писатели были ошельмованы Карлом Краусом, то я вовсе не стремился с кем-то из них познакомиться. О Музиле и Брохе я тогда еще ничего не знал. Многое, даже большая часть того, что было признано в Вене, представляло ничтожную ценность, и лишь сегодня мы знаем, как много значительного возникло там в это время, почти неведомое общественности или ею отвергнутое и презираемое, как, скажем, произведения Берга[120] или Веберна[121].
И вот вдруг я очутился в Берлине, где все происходило открыто, где новое и интересное было к тому же и знаменитым. Я вращался только среди этих людей, все они друг друга знали. Они вели насыщенную и кипучую жизнь. Посещали одни и те же ресторанчики, друг о друге говорили без всякого стеснения, любили и ненавидели друг друга на глазах у всех, их своеобразие обнаруживалось в первых же фразах, казалось, будто они готовы на тебя наброситься. Я еще не видел такого скопления людей с ярко выраженной, но и столь различной индивидуальностью. Проще простого было сразу же понять, кто чем богат, и как раз в таких людях здесь, в отличие от Вены, не было недостатка. Я пребывал в сильнейшем возбуждении и то же время был испуган. Впечатлений было так много, что они могли привести в замешательство. Но я был полон решимости не дать привести себя в замешательство, и это упорное нежелание поддаться неизбежному замешательству имело мучительные последствия.
Самым тяжелым для молодого пуританина — я остался таковым в силу особых обстоятельств моих юных лет — была жестокая сексуальность. Я наблюдал многое такое, что было мне всегда отвратительно. Это показывали непрестанно, это соответствовало характеру тогдашней берлинской жизни. Все было возможно, все происходило, Вена Фрейда, где о столь многом говорили, в сравнении с этим выглядела безобидно болтливой. Никогда еще у меня не было такого ощущения, будто я близко соприкасаюсь со всем миром в каждой его точке одновременно, и этот мир, в котором я за три месяца не мог освоиться, казался мне миром сумасшедших.
Он так увлек меня, что я чувствовал себя несчастным, когда в октябре вынужден был вернуться в Вену. Все во мне оставалось каким-то нерешенным и непреодоленным, смешавшись в чудовищный клубок. Зимой я закончил свое обучение, а весной сдал экзамены. Я как-то не вполне сознавал, что делаю, потому что во мне неусыпно жил этот новый хаос. Друзьям я обещал, что летом 1929 года опять приеду в Берлин. Мое второе пребывание там, длившееся опять около трех месяцев, было менее лихорадочным. Я жил отдельно и заставлял себя вести более спокойный образ жизни. Виделся опять со многими людьми, но не со всеми. Посещал другие кварталы Берлина, ходил один в пивнушки и там знакомился с людьми другого рода, прежде всего с рабочими, но также с буржуа и мелкими буржуа, которые не были интеллигентами или художниками.
Я не спешил и кое-что записывал.
Когда я на этот раз вернулся осенью в Вену, бесформенный клубок у меня внутри начал распутываться. С химией было навсегда покончено, я хотел теперь только писать. Средства к существованию я обеспечил себе несколькими книгами Эптона Синклера, которые взялся перевести для издательства «Малик»[122]. Я был свободным человеком и продолжал изучать разнообразные материалы, особенно меня занимавшие, то, что начал еще до Берлина, — это были уже упомянутые подготовительные работы для книги о массе. Но что меня больше всего занимало по возвращении из Берлина, что уже от себя не отпускало, были те склонные к крайностям и одержимые люди, с которыми я там познакомился. В Вене я опять жил один в той комнате, о которой уже говорил. Я почти ни с кем не виделся, а передо мной, на холме напротив, неизменно присутствовал город сумасшедших, Штайнхоф.
Однажды мне пришла в голову мысль, что мир больше невозможно изображать так, как в старых романах, так сказать, с точки зрения одного писателя, мир распался, и, лишь имея мужество показать его в состоянии распада, можно еще дать о нем истинное представление. Но это вовсе не означало, что следует приниматься писать хаотическую книгу, в которой ничего нельзя будет понять, напротив, надо было со строжайшей последовательностью изобрести крайние индивидуумы, подобные тем, из которых действительно состоит мир, и эти доведенные до края индивидуумы сопоставить во всем их несходстве. Я составил уже упомянутый план «„Comedie Humaine“ у сумасшедших» и набросал восемь романов, в каждом из них один персонаж я поставил на грань безумия, и эти персонажи во всем, вплоть до языка, до сокровеннейших мыслей, отличались от всех остальных. Переживания подобного персонажа были такого рода, что никто другой того же переживать не мог. Ничего взаимозаменяемого не должно было быть, и ничто не должно было смешиваться. Я внушил себе, что строю восемь прожекторов и их лучами буду обшаривать мир извне. Целый год я выписывал эти восемь фигур, бессистемно, в зависимости от того, какая в данный момент больше меня увлекала. Среди них был один религиозный фанатик, один научно-технический фантаст, живший исключительно планами покорения космоса, один коллекционер, один одержимый истиной, один расточитель, один ненавистник смерти и, наконец, также один книжник в чистом виде.
Куски этих буйно разросшихся набросков, к сожалению, лишь небольшие куски, у меня еще сохранились, и, когда я недавно их почитал, во мне пробудился задор тех времен, и я понял, почему тот год запомнился мне как самый богатый год моей жизни. Дело в том, что ранней осенью 1930 года наступила перемена. Книжник вдруг оказался для меня настолько важным, что все остальные наброски я отложил в сторону и целиком сосредоточился на нем. Год, в ходе которого я позволял себе что хотел, сменился годом почти что аскетической дисциплины. Каждое утро, не пропуская ни дня, я писал своего «Бранда», как он теперь у меня назывался. Плана у меня не было, но я остерегался горячки минувшего года. Чтобы меня не занесло слишком далеко, я систематически читал «Красное и черное» Стендаля. Я хотел продвигаться постепенно, шаг за шагом, и внушал себе, что это должна быть строгая книга, беспощадная как по отношению ко мне самому, так и по отношению к читателю. От всего, что могло быть приятным и ласкающим, я был застрахован глубокой неприязнью к господствовавшей тогда венской литературе. То, что котировалось выше всего, отдавало оперной сентиментальностью, и среди авторов встречались еще к тому же жалкие фельетонисты и болтуны. Не могу сказать, чтобы кто-то из них что-либо для меня значил, а их проза вызывала у меня тошноту.
Когда я сегодня себя спрашиваю, откуда взялась строгая манера письма, то усматриваю самые разнородные влияния. Я уже называл Стендаля, несомненно, он побуждал меня к ясности. Я закончил восьмую главу «Ослепления» — теперь она называется «Смерть», — когда в руки мне попалось «Превращение» Кафки. Большей удачи в тот момент у меня быть не могло. Там я обнаружил в наивысшем совершенстве противоположность той литературной безответственности, которую так ненавидел, там была строгость, по которой я тосковал. Значит, то, что я хотел найти для себя одного, было уже достигнуто. Я преклонился перед этим чистейшим образцом, прекрасно сознавая, что он недостижим, но он придал мне силу.
Я полагаю, что знание химии, химических процессов и формул, тоже способствовало этой строгости. Таким образом, оглядываясь на те четыре с половиной года, что я провел в лаборатории, за делом, которое считал тогда бездуховным и угнетающим, я о них не сожалею. Это время не было потеряно, оно вылилось в удивительную дисциплинированность письма.
Год интенсивных набросков тоже не пропал зря. Так как все эти наброски я писал одновременно, то привык синхронно вращаться в разных мирах, перескакивать из одного в другой, а они не имели между собой ничего общего, различались во всем, вплоть до языка. Теперь это пошло на пользу последовательному разделению фигур в «Ослеплении». То, что раньше отделяло один роман от другого, стало теперь способствовать разделению внутри одной книги. Так что, хотя материал этих набросков большей частью остался неиспользованным, с их помощью выработался метод для «Ослепления». Даже то, что осталось ненаписанным из этих восьми романов, скрытые соки «„Comedie Humaine“ у сумасшедших», влились в «Ослепление».
Несмотря на удовлетворение тем, что ежедневно я продвигался в писании романа, что он меня не отпускал и прерываться мне не хотелось, конкретная реальность фраз, которые ложились у меня на бумагу, причиняла мне страдания. Жестокость того, кто принуждает себя к истине, больше всего мучит его самого, пишущий причиняет себе во сто крат больше мук, чем читателю. Были минуты, когда моя чувствительность пыталась убедить меня — вопреки моему истинному убеждению — поскорее закончить роман. Тем, что я не поддался этому искушению, я обязан в немалой степени фототипиям Изенгеймского алтаря[123], сменившим у меня в комнате фрески Сикстинской капеллы. Мне было стыдно перед Грюневальдом, который предпринял чудовищно трудное дело и четыре года от него не отступал. Сегодня это кажется мне ходульным. Но во всяком поклонении великим вещам, когда оно становится слишком интимным, есть доля высокомерия. Тогда эти Грюневальдовы детали, все время находившиеся со мной, были для меня необходимым стимулом.