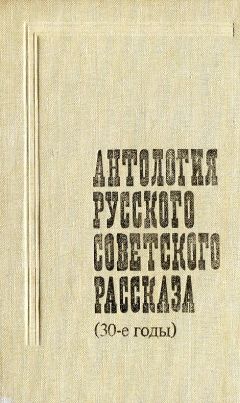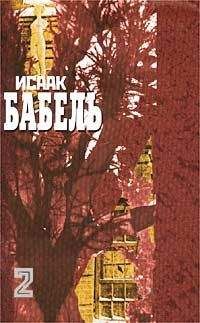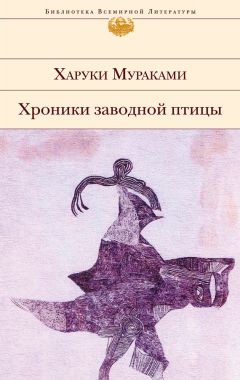Харуки Мураками - Край обетованный
Выходит, контакт отличается в зависимости от сложности проблемы ?
Разумеется. Придет, скажем, старшеклассник и говорит: «В школу я не хожу». Отвечаешь ему заинтересованно: «Ах, вот как», – но ни в коем случае не просишь: «Кстати, а расскажи о своем отце?» Важно, чтобы всплыла правда того человека. На этом и фокусируешь внимание.
Но в случае с «Подземкой» мы имеем дело с разовым интервью, поэтому жаль, что я не владею определенными фактами. В подобной ситуации я, пожалуй, контактировал бы аналогично, но тогда с самого начала выспрашивал бы факты осмотрительно. В начале предоставляешь собеседнику как можно больше свободы.
Постепенное прояснение действительности – зачастую дело весьма нелегкое. В нынешней работе самым сложным – даже, можно сказать, дилеммой – мне показалось вот что: разговоры о происшествии действовали на некоторых положительно, а у некоторых, наоборот, от них ухудшалось самочувствие. Постепенно меня это начало сильно беспокоить.
Прекрасно вас понимаю.
Но с учетом того, что я пишу книгу на определенную тему и беру интервью, чтобы хоть сколько-то пролить свет на действительность, я не могу не расспрашивать об этих самых фактах. И очень трудно было определить для себя, до какой степени стоит расспрашивать человека, до каких пор следует писать. Несомненно, у вас цель беседы совсем иная.
Мы идем на встречу с человеком, постоянно думая об этом. Когда клиент начинает говорить лишнее, останавливаем его фразой: «Ну, об этом поговорим в следующий раз».
И это постигается эмпирическим методом, верно?
Верно. Имеет место и эмпирический метод. Далее, слушая рассказ, наши чувства обостряются. И когда нам самим становится отчасти страшно, мы прерываем разговор.
Однако создавая книгу, так просто не прервешь.
Действительно. Потому что преследуются разные цели. Но даже при этом, когда разговор окончен и в ходе него кому-то стало плохо, бывает, это служит ступенью для изменения к лучшему в дальнейшем. Поэтому просто не скажешь, хорошо это или плохо. Хотя часто бывает и так: сначала человек расстраивается, сказав что-то лишнее, но потом передумывает: «Вроде все так и есть», – и у него сразу поднимается настроение.
Я тоже по возможности стараюсь при интервью держать ухо востро. Пытаюсь оценивать разные вещи инстинктивно. Но предвидеть, что будет дальше, невозможно. И даже если стало лучше, сколько на это потребовалось времени, неизвестно.
Верно. До такой степени – неизвестно. Но тебе говорят: «Встретимся – поговорим», – поэтому приходится волей-неволей как-то вникать в ситуацию. К тому же – не шуточное дело, когда собственный рассказ становится книгой. Зачастую родные и близкие резко реагируют на твои собственные истории о пережитом, но они воспринимаются по-иному, стоит прочесть их печатными буквами в форме книги. На этот раз окружающие проникаются: «Ах, вот оно как все было». Думаю, это отрадный факт.
И наоборот, мне показалось, что большинство служащих принижают полученный ими ущерб. Больно на десять, а они настаивают на семи. Сказали на десять, но когда дело доходит до текста, требуют, чтобы ограничился семью. Не сделаешь так – не сможешь воспользоваться материалом вовсе. Это и есть корпоративное мышление. Получается, что впросак попадает пишущий.
Я не берусь за перо, потому что это очень непростое дело. Опиши я сейчас все, что делаю, – и воздействие на людей окажется сильнее. Если описать страдания как они есть, люди будут лучше знать, что это такое. Но это невозможно. В нашей работе существует обязательство неразглашения тайны.
Когда я пишу, разумеется, я получаю согласие противоположной стороны. Или добавляю вымысел. Но вымысел почему-то не способен оказывать воздействие. Странное дело, да? Может показаться, что история только выиграет, добавь в нее вымысел, но когда этим занимаемся мы, вымысел не имеет силы. Разумеется, это не касается создателей литературных произведений. Их творчество исходит от них самих. А мы занимаемся элементарной выдумкой.
Я преследовал две цели во время работы над «Подземкой». Первая – это собрать и расставить по порядку не освещаемую СМИ первичную информацию. Вторая – последовательно отследить произошедшее глазами потерпевших. Почему? Потому что с этой позиции не было написано ни одной книги.
Мне казалось: какой смысл заниматься я сейчас, подобно многим обозревателям и средствам массовой информации, анализом морали и идейности «Аум Синрикё»? Чем блуждать по лабиринту лингвистического выражения смысла, лучше вернуть происшествие на позиции простого человека, отбросить специфические термины, и отследить его заново, что позволит проще увидеть разные вещи.
Я считаю, что такое количество материала возникло от вашей манеры ведения интервью. Это становится понятно после того, как ознакомишься с содержанием. Вы выступаете в роли слушателя и почти не выпячиваете себя. И то, что проговаривают вам люди, – только потому, что расспрашиваете именно вы. Обычному человеку столько бы не рассказали. Я в этом уверен.
Что вы конкретно имеете в виду? Я лишь увлеченно расспрашивал, поэтому мне трудно об этом судить.
Например, предположим, я еду в район стихийного бедствия и прошу пострадавших рассказать о случившемся: мол, напишу об этом книгу. Разговор не получится. Можно услышать в ответ: «Да, пришлось несладко», или: «Рухнул дом», – но даже при этом разговор станет в тягость. Какой смысл его продолжать, если собеседник не может тебя понять? Иными словами, как он может проникнуться, не понимая, о чем идет речь. В зависимости от собеседника, бывает, разговор становится до крайности простым. Правда, в этой книге все рассказы – как наяву. Обычно люди редко так откровенничают.
Я начал работу над этой книгой, естественно, питая интерес к происшествию. Но больше всего меня интересовали люди. Я ведь писатель. Поэтому первые полчаса-час вел беседу наличные темы, никак не касаясь происшедшего. Где родился собеседник, в какой семье воспитывался, каким был в детстве, чем занимался в школе, когда была свадьба, сколько детей, какие увлечения, где работает… Любая из историй была настолько интересной, что хотелось записать все полностью. Но зачастую меня останавливали фразой: «Не пишите – это личное».
Однако чем дальше, тем больше вырисовывалось, что за человек мой собеседник. Во мне самом формировался его портрет. Достигнув этой фазы, я впервые касался главной темы: «А теперь, что касается того дня…» Как правило, в большинстве случаев разговор переходил относительно плавно. Хотя иногда никак не клеился.
Разумеется, не все получается гладко. При этом подлинная сущность – не в зарине, а в том, какой жизненный путь прошел человек. Часто меня посещало одно сильное чувство: «Японцы, вы – молодцы».
Стараются изо всех сил. Слушаешь их рассказы и чувствуешь бешеный ритм их жизни. И так – годами, изо дня в день. Причем никто не срывается, не говорит: «Все, баста». Хотя, конечно, встречаются и такие, но их меньшинство. Почти все без единого слова продолжают ходить на работу. На мой вопрос: «Не надоело?» – почти все отвечают: «А чем я лучше других?» У них вряд ли бы так получалось без подобного отношения к работе. Даже надышавшись зарина, большинство, пошатываясь, шло на работу. Выносливые. Некоторые в полубессознательном состоянии делали производственную гимнастику.
И то правда. Не то что мы (смеется).
Мне кажется, существует два типа мышления.
Первый – корпоративная система с этой стороны, где присутствуют в том числе и религиозные оттенки. Пожалуй, мои слова вызовут упрек, но в этой системе, возможно, в каком-то смысле есть скрытые моменты, схожие с системой «Аум Синрикё». Среди пострадавших служащих некоторые признались, что окажись они в той ситуации, не исключено, что выполнили бы приказ.
Второй тип – нет, общего ничего нет. Здешняя система совершенно отличается от системы тамошней. Одна сторона включает в себя другую, и может исправлять ошибки. Я до сих пор не могу так просто сказать, к какому типу принадлежу сам.
Для этого первым делом необходимо определить, зло – это понятие личное или единица системы. Я долго об этом думал уже после завершения работы над «Подземкой». Что есть зло? Вопрос до сих пор остается открытым. Порой мне кажется, продолжай я исследовать эту проблему, и ее контуры где-нибудь, да проявятся.
Действительно, зло – очень сложная проблема. Она и раньше была непростой, а сейчас, в нынешнюю эпоху, стала еще запутанней.
Зло для меня – один из главных мотивов. Я с давних пор пытался описать зло в собственных произведениях. Но не мог отсеять его от прочего. Я могу описать один из обликов зла: например, грязь, насилие, ложь. Но когда дело доходит до общего облика зла, охватить всю его форму невозможно. Об этом я продолжал думать и когда писал «Подземку».