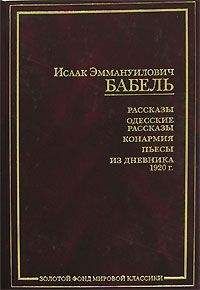Исаак Бабель - Публицистика
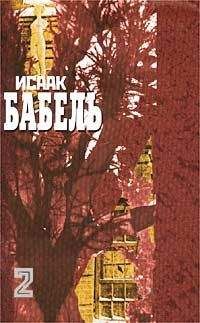
Обзор книги Исаак Бабель - Публицистика
Исаак Бабель
Публицистика
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Каждый день люди подкалывают друг друга, бросают друг друга с мостов в черную Неву, истекают кровью от неправильных или несчастных родов. Так было. Так есть.
Для того, чтобы спасать маленьких людей, гранящих тротуары большого города, существуют станции скорой помощи.
Так и называется — скорая или первая помощь. Если вы хотите знать, как помогают в Петрограде, как быстро помогают в Петрограде, — я могу вам рассказать.
В канцелярии станций царствует великое молчание. Есть длинные комнаты, блестящие пишущие машинки, стопочки бумаги, подметенные полы. Есть еще испуганная барышня, года три тому назад начавшая писать бумажонки и журналы и не могущая — в силу инерции — остановиться. А остановиться не мешало бы, потому что давно уже — ни бумажонки, ни журналы никому не нужны. Кроме барышни — людей нет. Барышня — это штат. Можно даже сказать штат сверх комплекта. Если нет лошадей, нет бензина, нет работы, нет докторов, нет пекущихся, нет опекаемых — зачем же тогда комплекты?
Всего этого действительно нет. Когда-то было три автомобиля «лежачих», как их называют служащие, и четыре «нележачих». Они и есть, но на вызовы не выезжают, потому что нет бензина. Бензина давно нет. Недавно кому-то надоело это тихое положение. Кто-то прикрепил значок к сюртуку и поехал в Смольный.
Начальство ответило: «Общее количество бензина, числящегося на городских складах столицы, доходит до двух с половиной пудов». Начальство, может быть, ошиблось. Однако возражать нечего.
Было еще шесть кареток при пожарных частях. В настоящее время они отдыхают. Пожарные команды не дают лошадей — «для себя не хватает».
Итак, осталась одна каретка. Для нее нанимают двух лошадей у извозопромышленника и платят ему за это 1000 в месяц.
Из многочисленных вызовов — в день удовлетворяются два или три. Больше не успеть — концы большие, лошади тощие. На место происшествия, если оно, скажем, на Васильевском, приезжают через час-два. Человек уже помер, или человека вообще нет, — исчез. Если же пострадавший оказывается в наличности, то он с прохладцей отвозится в больницу, а карета после роздыха отправляется дальше — на вызов, имевший место часов пять тому назад. Для регистрации деятельности учреждения существует специальная книга — книга отказов. В нее вносятся случаи, когда помощь не была оказана. Пухлая книга, самая важная, единственная книга. Других не надо.
Единственную шевелящуюся каретку обслуживают 22 человека персонала — из них 11 фельдшеров и 7 санитаров. Очень возможно, что все они получают жалованье и даже по сложной схеме — с прибавкой на дороговизну.
При станции нет никаких учреждений, иллюстрирующих ее деятельность, нет музеев, больниц. В Западной Европе, во многих городах такие музеи представляют исключительный интерес, живую и скорбную летопись городской жизни. В них собраны орудия убийства, самоубийства, письма самоубийц молчащие и красноречивые свидетельства о человеческих тяготах, о гибельном влиянии города и камня.
У нас этого нет. У нас ничего нет — ни скорой, ни помощи. Есть только трехмиллионный город, недоедающий, бурно сотрясающийся в основах своего бытия. Есть много крови, льющейся на улице и в домах.
Станция, находившаяся в ведении Красного Креста, перешла теперь к городу. Очевидно, что-то ему нужно предпринять.
О ЛОШАДЯХ
То, что называлось раньше Петроградскими скотобойнями, ныне не существует. Ни одного быка, ни одного теленка не доставляют на скотный двор. Быки есть только у входа замечательного, по величественной и ясной архитектуре, главного флигеля — бронзовые быки, символы мощи, обилия и богатства. Нынче они сиротливы — эти символы — и живут собственной отдельной жизнью. Я брожу по скотному двору. Он мертвенно пуст, пуст до странности. Белый снег блестит под светлым и холодным солнцем Петрополя. Слабо протоптанные дорожки ведут в разные стороны. Мощные приземистые строения чисто выметены и молчат. Ни одного человека вокруг, ни одного голоса, ни одной травинки на земле. Только воронье с криком носится над местами, где когда-то дымилась кровь и трепетали только что переставшие жить внутренности.
Я ищу конебойню, но в продолжении четверти часа не нахожу на обширных дворах ни одной души, у которой можно было бы справиться о пути. Наконец, добрел. Картина изменилась. Здесь не пусто. Наоборот. Десятки, сотни лошадей понуро стоят в стойлах. Они дремлют от истощения, едят собственный кал и деревянные столбы изгородей. Изгороди теперь покрыты железными рельсами. Это сделано для того, чтобы предохранить наполовину съеденные лошадьми столбы от конечной гибели.
Полуразрушенное голодными животными дерево — вот нынешний символ — в противовес прошедшему — бронзовым быкам, наполненным тугим, красным, жирным мясом.
Десятки татар заняты убоем лошадей. Это чисто татарское дело. Наши бойцы, сидящие без работы, до сих пор не решились приступить к нему. Не могут, душа не пускает.
Это приносит вред. Татары совершенно не обучены своему ремеслу. Не менее четверти всех шкур пропадает бесплодно — не знают, как их снимать. Старых бойцов теперь не хватает. Сейчас вы узнаете — почему.
Я хожу с доктором мимо строений, где убивают лошадей. Мясники проносят дымящиеся туши, кони падают на каменные полы и умирают без стона. Доктор говорит мне скучные и привычные слова о том, что у нас во всем хаос, что и на конебойнях хаос, надо бы то и другое, проектируют всяческие меры.
Я узнаю страшную статистику. Против 30–40 лошадей, шедших на убой в прежнее время, — теперь ежедневно на скотный двор поступает 500–600 лошадей. Январь дал 5 тысяч убитых лошадей, март даст 10 тысяч. Причины нет корма. Татары платят за истощенную лошадь 1000-1500-2000 рублей. Страшно повысился качественный уровень убиваемых лошадей. Раньше бойня видела только старых, издыхающих. Теперь сплошь и рядом идут в резку превосходные рабочие кони, трехлетки, четырехлетки. Продают все — легковые извозчики, ломовые, частные владельцы, окрестные крестьяне. Процесс «обезлошадения» идет со страшной быстротой, и это перед весной, перед рабочей порой. Паровая движущая сила исчезает катастрофически. С живой силой — столь нужной нам — происходит то же. Останется ли вообще что-нибудь?
Высчитано, что с октября (месяц, когда обозначалось огромное увеличение резки) убито количество лошадей, в нормальное время могущих обеспечить работу боен в течение 12–15 лет.
Я вышел из места лошадиного успокоения и отправился в трактир «Хуторок», что находится напротив скотобоен. Настало обеденное время. Трактир был наполнен татарами — бойцами и торговцами. От них пахло кровью, силой, довольством. За окном сияло солнце, растапливая грязный снег, играя на хмурых стеклах. Солнце лило лучи на тощий петроградский рынок — на мороженых рыбешек, на мороженую капусту, на папиросы «Ю-ю» и на восточную «гузинаки». За столиками рослые татары трещали на своем языке и требовали себе к чаю варенья на 2 рубля. Возле меня примостился мужичонка. Мигая глазами, он сообщил, что в нынешнее время каждый татарин тысяч по пяти, а может, и по десяти в месяц зашибает, «всех лошадей скупили, дочиста всех».
Потом я узнал, что и русские за ум взялись. Тоже промышляют. «Что поделаешь? Раньше конину татары ели, а нынче весь народ и даже господа…»
Солнце светит. У меня странная мысль: всем худо, все мы оскудели. Только татарам хорошо, веселым могильщикам благополучия. Потом мысль уходит. Какие там татары?.. Все — могильщики.
НЕДОНОСКИ
Нагретые белые стены исполнены ровного света.
Не видно Фонтанки, скудной лужей расползшейся по липкой низине. Не видно тяжелого кружева набережной, захлестнутой вспухшими кучами нечистот из рыхлого черного снежного месива.
По высоким теплым комнатам бесшумно снуют женщины в платьях серых или темных. Вдоль стен — в глубине металлических ванночек лежат с раскрытыми серьезными глазами молчащие уродцы — чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин, женщин деревянных предместий, погруженных в туман.
Недоноски, когда их доставляют, имеют весу фунт — полтора. У каждой ванночки висит табличка — кривая жизни младенца. Нынче это уж не кривая. Линия выпрямляется. Жизнь в фунтовых телах теплится уныло и призрачно.
Еще одна неприметная грань замирания нашего: женщины, кормящие грудью, все меньше дают молока.
Их немного — кормилиц. Пять — на тридцать младенцев. Каждая кормит четырех чужих и одного своего. Так в приюте и произносят скороговоркой; четыре чужих, одно свое.
Кормить надо через каждые три часа. Праздников нет. Спать можно два часа сряду — не более.
Каждый день женщинам, к груди которых по семь раз в сутки присасываются пять синих, тонких ртов, выдают по три восьмых хлеба.