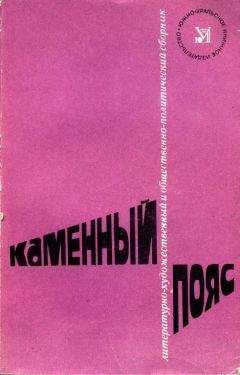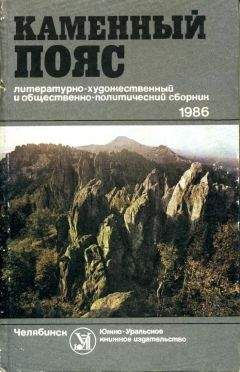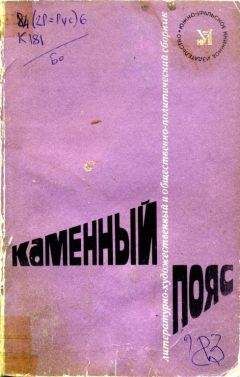Борис Бурлак - Каменный пояс, 1984
По вечерам, рассказывая Настасье Прохоровне о проведенном дне, Василий все чаще и чаще ловил себя на мысли, что он невольно подстраивается под настроение участкового и с таким же восхищением и гордостью говорит о том, что видел, о людях, с которыми встречался.
— Нравится ежели у нас, так оставайся, Василий, — сказала как-то бабка. — Вместе будем жить. Женишься. В Тальникове-то девок много. Даст бог, я еще и правнуков понянчу…
— А что, храер, Прохоровна дело говорит, — поддержал ее засидевшийся в тот вечер Пахомыч.
…На Сахалин Василия провожали всей деревней. Каждый нес с собой какой-нибудь гостинец: кто банку меда, кто домашнее масло, кто кусок сала, кто кружок замороженного молока. Серафим принес берестяной бурак соленых рыжиков.
— Это на особицу собраны. Больше чем по трехкопеечной монете не найдешь, — проговорил он, ставя бурак на стол.
— Что вы делаете, люди добрые. Вы что думаете, у нас на Сахалине кроме рыбы ничего нет? Ничего мне не надо. Да и не довезу я. У меня кроме портфеля ничего с собой нет, — отбивался Василий от гостинцев.
— Довезешь. Обязан довезти! — прикрикнул на него Петр Михайлович. Людей обижать нельзя. Они тебе от чистого сердца, а ты действительно, как фраер какой… На корабле друзей своих угостишь. Им тоже приятно будет…
В райцентре, на автобусной остановке, участковый крепко пожал Василию руку и сказал:
— Ну давай, однофамилец, чтоб все было как надо! Мягкой посадки тебе на Сахалине. Передавай от меня привет острову.
— Спасибо, Петр Михайлович. Спасибо за все, — ответил Василий.
— А если надумаешь якорь бросать, приезжай к нам. Все-таки у тебя тут родня. А матросу везде дело по душе найдется.
…В аэропорту, в ожидании вылета, Василий Антохин не переставал думать о днях, проведенных в деревне.
«Еще совсем недавно не видел я своей бабки, — размышлял он, — не знал ни Петра Михайловича, ни Пахомыча, ни Серафима, ни Мякишева, ни других жителей деревни. А вот стали они мне близкими и родными. И эта затерянная в лесах и засыпанная снегами деревня Зуево. Чем она меня к себе манит?»
И в думах пришло к нему понимание, что это именно то, чего не хватало ему ни в длительных загранплаваниях, ни в бесцельно проводимых бесшабашных днях жизни на суше.
Уже дважды объявили о регистрации билетов на Хабаровский рейс, а Василий все сидел в кресле, и думы о новых знакомых этой северной стороны не оставляли его.
ПРОЗА
Рассказы
Кирилл Шишов
ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Савелий Пахомов любил родной город так, как сыновья любят своих отцов. Город заменил ему отца, когда вдвоем с матерью они эвакуировались из Ленинграда; и здесь в пропахшей керосиновым чадом кухне коммунальной квартиры мать рыдала, упав пепельной от горя головой на клеенку обеденного стола, а рядом лежал розовый листок похоронки. Савелий помнил тот день и поныне потому, что именно тогда разбился фарфоровый бокальчик с любимым снимком отца. А снимок был сделан еще до войны и переведен каким-то хитрым способом на фарфор, и отец был всегда рядом с ним: молодой, с чуть прищуренным веселым взглядом и упавшей на лоб прядью волос. Склеить фарфор в те годы было нечем.
Савелий любил в своем городе все: и длинные студеные зимы с промерзающими напрочь стеклами двойных рам, и удушающие летние сухмени с оплавленным зловонным асфальтом и закрытыми от безводья ларьками. Он вспоминал, как в послевоенные зимы мать приносила с базара промерзлую картошку, и та, оттаяв, сладко и гнилостно пахла в чулане, а разваренная забивала горло сухостью и крахмалом. А осенью горожане покупали желтый башкирский мед, и тогда он ел его ложками, облизывая потрескавшиеся от жажды губы и закусывая пыльным и твердым жмыхом. Ощущения отрочества сливались у него воедино с золотушным светом станционных фонарей и скрежетом грузовых вагонов, из которых они мальчишками воровали сою.
После войны в город привозили груды искореженной военной техники, и там же, на станционных путях, где было гулко и жутко от переклички громкоговорителей, они вооружались помятыми солдатскими касками, заржавленными автоматами и даже настоящими, неразорвавшимися в бою, лимонками. Савелий помнил тот нереальный, таинственный полумрак нагретых июльским солнцем танков, в которых они часами играли в Курскую дугу или в Сталинград, и кожаные обгорелые сиденья пахли порохом и степной полынью далеких битв…
Сегодня Савелий приехал в город, где не был лет пять, приехал на свидание с матерью, имея наказ жены взять старушку к себе в Литву, где рос внук — трехлетний Егорка, а также наладить обмен квартиры по имеющемуся у него объявлению. Он сидел на балконе в расстегнутой от летней духоты поплиновой рубашке и курил после сытного уральского угощения с пельменями, солеными груздями и непременной «орчанкой» — оренбургской водкой, которую особенно любил за ее пшеничный запах и отсутствие суррогатных примесей.
Он любил и никогда не забывал бревенчатую начальную школу с ржавым карнизом в пристанционном поселке, где сиплый паровозный гудок часто перекрывал голос учителя, а снег через полчаса после снегопада покрывался крупными черными кристаллами. Он ходил в школу всегда в ватнике, даже когда кончал десятый класс.
Школа была уже другая: каменная, с высокими потолками и парадными лестницами. Но любили его там по-прежнему — ласково и по-домашнему: многие учителя лечились у его матери, лучшего ушника дороги. Она и поныне, в шестьдесят с гаком, не бросала работы, моталась по командировкам и бранила легкомысленных молодых врачей, не умеющих найти душевный подход к измотанным болью пациентам.
Через открытую дверь балкона Савелий слышал, как мать, убирая со стола, громко — она привыкла иметь дело с глуховатыми больными — кричала: «Это надо же так сказать: «Отверните ему голову, сестра!» Врач с университетским дипломом — и «отверните голову». Мистика!…»
Вообще-то Савелию нашлась бы работа и в родном городе: в Москве он окончил архитектурный и в местном Гражданпроекте предлагали ему неплохую должность по застройке новых районов, но жена — уроженка запада — сумела настоять на его переезде в уютный, дремлющий литовский городок на берегу желтого Немана, где он получил должность главного архитектора и блаженствовал, имея хороший оклад при минимуме забот и переживаний. Однако в глубине души Савелию было не по себе, когда он вспоминал, как в горячке юношеской поры мечтал о грандиозных планах, о реконструкции своего старого привокзального района, о новых парках, мостах и непременно о заповеднике. Да, да, заповеднике народного зодчества…
Эта мечта, собственно, и сформировала в нем архитектора. Еще в школе, заметив его незаурядные способности, молоденькая и застенчивая учительница рисования уговорила его мать взять частного учителя.
Мать сначала отнекивалась, ссылаясь на отсутствие средств и сомнительность таланта сына, а потом вдруг привела своего клиента, рослого, толстобрюхого художника с сивушным запахом, нечесаными волосами и громадными кистями рук, способными обхватить пятерней арбуз или трехлитровую бутыль. Мать, вероятно, считала, что служители муз должны отличаться от обыкновенных смертных не только нравственно, но и физически. Действительно, Поликарпий — так индивид просил его звать и никогда не отзывался на отчество — был человеком выдающимся. Он был монахом в молодости, потом из монастыря ушел добровольцем на фронт и был истребителем танков, а потом в нем вдруг проснулась жажда к живописи, «к ликам одухотворенным», как густым басом говорил он, охотно усаживаясь за вчерашний борщ или мясной студень, потому что платы принципиально не брал.
Жил Поликарпий один в мезонинчике, по ту сторону железнодорожных путей. От него Сава научился многому: искусству смешивать краски и улавливать характеры в портретах, наблюдению за светотенью и передаче движения. А самое главное — этот профессиональный чернец и самоучка в искусстве был чертовски остер на глаз. Он подмечал мельчайшее: зеленоватую тень от тополей на лицах деревенских баб, принесших на рынок яйца и стрельчатый лук, голубоватые прожилки на щеках застарелого деда Ерофея, торгующего семечками возле перронных касс, блудливый прищур самостийного воришки — сына хозяйки, которого он рисовал еженедельно, меняя освещение и позы, прибавляя при этом: «Я тебя, сукиного кота, для потомства оставлю — пусть видят, за кого отцы кровь проливали, шкода ты этакая…» А Сема щурился, показывая тайком Савелию кукиш, и вертелся на табуретке, сверкая веснушками величиной с копейку и редкими, широко расставленными зубами: «Вы, небось, думаете, дядя Поликарп, что это я у вас колонковую кистю спер? Не, это Сашка, он похвалялся, что за нее в тире сто выстрелов дадут стрельнуть!» И Поликарп бросал кисти, лихорадочно накидывал мокрую тряпку на мольберт и бежал на соседний двор отодрать за вихры ни в чем не повинного Сашку…