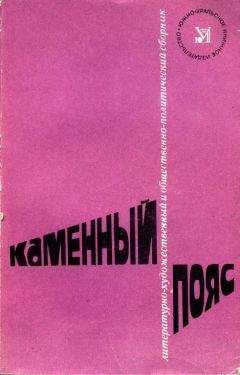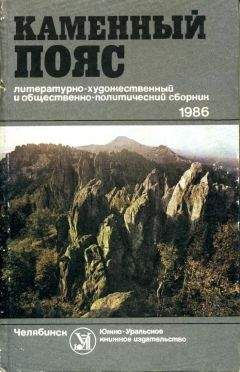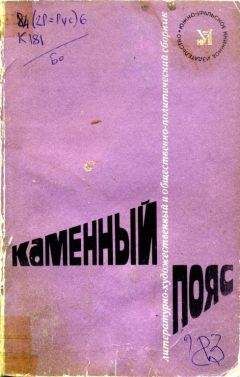Борис Бурлак - Каменный пояс, 1984
Евгений Замятин
СТИХИ
САХАЛИНЕЦ
Где сейчас он,
Как ловит зверей и рыб —
Знают кайры одни
Да ели.
Он у Погиби-мыса
Едва не погиб,
Да Три Брата
Спасти сумели.
У Ныврово его
Захватил мороз,
Да согрели Анивы зори.
Он в заливе Терпенья
Спокойно снес
Все толчки
Охотского моря.
В Нефтегорске
Он вышками тучи рвет,
А в Шахтерске
Уходит в землю.
Никакая беда
Его не берет,
А печаль он сам
Не приемлет.
Вот и Камень Опасности
Минул он,
Вот и мыс прошел
Поворотный.
Поворот рулем —
И горит Крильон
Апельсиновой
Позолотой.
У Оленьей реки
Он оленя спас,
Секачей мирил
На Тюленьем.
И о том, где был,
Вспоминал не раз
На крутой горе
Возвращенья.
КОНСТАНТИНОВНА
За овинами —
Травы тминные.
Константиновна —
Косы длинные.
Пятый год войны,
Кружат вороны.
Не твои ль сыны
Бьются с ворогом?
Самых жилистых
Пули выстригли.
Словно жимолость,
Снохи высохли.
Константиновна,
Что вы плачете?
Три малиновки
Озадачены.
Три красавицы
Внучки-зореньки
Вот расплачутся,
Вот рассорятся.
Константиновна,
Горе выпейте.
Константиновна,
Слезы вытрите.
Черный снег метет
Над покосами.
Боль и Русь всегда
Были сестрами.
Евгений Калинин
ОТПУСК АНТОХИНА
Рассказ
Матроса второго класса Василия Антохина, с видавшего виды лесовоза, во всех портах пароходства иначе не называли как Васька-фраер. И виноват в этом прозвище он был сам.
Возвращаясь с берега на корабль, Антохин так говорил: «Гулял, как фраер-муха на колесах. А кто мне запретит красиво жить, когда имею на то право и свободные деньги!»
Про чудачества Василия Антохина ходили легенды. Рассказывали, например, как сойдя на берег в Корсакове, он заказал пять такси, сел в третью машину и поехал в Южно-Сахалинск. Две первые и две последние машины порожними сопровождали его до областного центра.
Однажды, изрядно захмелев в ресторане, он подозвал официанта к столику:
— Обнеси-ка всех оркестрантов по соцкой!.. А то так грустно играют, аж тоскливо мне стало…
По натуре Антохин был веселым, работящим парнем. И добрым, до денег и барахла не жадным. Другие матросы копили деньги на автомобиль, мебель или на что-нибудь другое. Бывая в загранплаваниях, покупали японские магнитофоны, модные костюмы, платья. Антохина это не прельщало.
Заработанные за рейс деньги он щедро прогуливал, давал в долг товарищам.
Помполит лесовоза Коржев не раз говаривал Антохину:
— Хороший ты парень, Василий Андреевич, но ветру в голове у тебя, как циклонов в Тихом океане. Женился бы, что ли, может, остепенишься.
В ответ Антохин широко улыбался:
— Моя невеста, Иван Гаврилович, еще подрастает… Женюсь я и буду, как кочегар Лаптев или боцман Бучнев, во всех иностранных портах за тряпками бегать. Это ж они не по доброй воле бегают, их бабы заставляют. А по мне этот «хрен-плен» до лампочки… Сошел на берег, и гуляй, как фраер-муха на колесах…
— Допрыгаешься вот, фраер… — ворчал помполит.
Из родственников у Антохина была лишь одна бабка, доживающая век где-то на севере Пермской области. Василий никогда ее не видел, но ежемесячно посылал ей пятьдесят рублей.
— Это я долг бабусе возвращаю, — говорил он приятелю. — В детстве мы жили в большом южном городе Ростове-на-Дону. Предки мои на заводе работали, я в школе учился. После третьего класса старики отправили меня в пионерлагерь, а сами собрались в отпуск к бабке. Полетели самолетом и попали в авиакатастрофу… Как меня отыскала бабка в детдоме, не знаю, но время от времени присылала мне по пятерке на конфеты и мороженое. Вот я сейчас и возвращаю ей долг… Одна она, как и я. Надо бы навестить, да все некогда.
…В начале нынешней зимы лесовоз, на котором работал Антохин, поставили на капитальный ремонт, а членов экипажа, кому полагалось, отправили в отпуска. В числе их был и Антохин.
То ли ему надоело чудить, то ли еще что, но на этот раз он твердо решил съездить к бабке. Из отпускных денег купил костюм, теплые югославские ботинки, демисезонное пальто, бабке в подарок — пуховую шаль. Оставшиеся полторы тысячи рублей бросил в большой кожаный коричневый портфель, позаимствованный у приятеля.
Через два дня Антохин сошел с самолета в Пермском аэропорту. До райцентра, куда нужно было попасть, такси не ходили.
— Да в это село и летом-то не проедешь, а ты в декабре, мил-человек, туда на такси собрался: дураков нету, — ответил ему один из водителей.
И напрасно Антохин предлагал таксистам тройную плату. Ни один из них не согласился поехать в отдаленный северный район.
— Порядочки тут у вас в Европе, — чертыхался Василий. — Да у нас на Сахалине в любое время можно проехать куда угодно, — заливал он, хотя знал, что в зимнюю непогоду и по Южно-Сахалинску особенно-то не разгонишься.
Пришлось до районного села ехать рейсовым автобусом, а оттуда до бабкиной деревни Зуево — попутным грузовиком.
— Ты, паря, чей будешь-то? Что-то я тебя никак не признаю… Не из наших, деревенских, видать? Ну да, не из деревенских, — разглядывая подслеповатыми глазами гостя, встретила бабка Василия. — Обличьем-то на городского смахиваешь.
— Да я, Настасья Прохоровна, внуком тебе довожусь, твой сын Андрей — мой батя…
— Неужто Василий?! О, господи, хоть на старости лет свидеться довелось, — запричитала старуха.
Она уткнулась лицом в его плечо, обнимала, плакала и все приговаривала:
— Вот счастье-то какое! Внучек. Андрея кровинушка родная… С отца ростом-то вымахал, а с лица-то на Нюрку похож, вот только такой же лобастый, как Андрей…
Василию от всех этих нежностей и причитаний было и неудобно, и одновременно приятно. Потом они ужинали и пили чай, и Настасья Прохоровна, укутавшись в пуховую шаль, подарок внука, рассказывала Василию о жизни.
— Деревню-то нашу наладились перевести в центр колхоза, в Тальниково. А куда нас везти? Восемнадцать домов осталось, а в них все такие же, как я, старики да старухи. Никто не соглашается. Говорят, здесь родились, здесь и умирать будем. Сам председатель приезжал. Такого насулил!.. В центре, говорит, и магазины, как в городе, и школа, и больница своя… А только никто не соглашается. Да и правда, куда нам старым?.. Как-нибудь доживем до смерти и здесь, — и спросила: — А ты где робишь-то, Василий?
— Матросом на большом корабле. Лес за границу возим.
— Жалованье большое дают?
— Да когда как. Но в общем-то не обижают.
— Я к тому, Василий, спрашиваю, что много денег мне посылаешь. Как раз три моих пенсии. Почтальонка Глафира все допытывается у меня, каким министром внук работает…
В избе было жарко натоплено, с полатей шел терпкий запах сухого лука. Заварная капуста, маринованные рыжики с чесноком и сметаной, наваристые щи издавали какой-то особый, домашний аромат. И все это, и неторопливый окающий бабкин говор словно завораживали Василия. Ему показались родными и эта жарко натопленная изба, и этот стол с деревенскими кушаньями, и этот бабкин окающий говор, и сама она.
И Василий с удовлетворением подумал: «А все-таки хорошо я сделал, что приехал к Настасье Прохоровне».
На третий день деревенской жизни Антохин заскучал. С бабкой обо всем переговорено, пойти некуда. Деревня, как в заколдованном сне, стояла чуть ли не по самые крыши укутанная в снежные сугробы. В десять часов вечера отключали электричество, а Василий не привык в такое время укладываться спать. Побродить днем по лесу не позволяли ни декабрьские морозы, ни югославские ботинки и демисезонное пальто.
Его энергичная душа требовала действий. Захватив портфель, Антохин отправился в местный магазин, который оказался такой же, как у бабки, избой с пристроенным крылечком. Вокруг него толпились мужики и весело смеялись.
— Во, дает Пахомыч! — услышал он чей-то восхищенный возглас.
— Здорово, мужики! — поздоровался Антохин.
— Здорово, здорово, коли не шутишь, — ответил за всех сидевший на ступеньках крылечка пожилой мужчина в кургузом полушубке и старой солдатской шапке-ушанке. В руках он держал пустую бутылку из-под водки. — Это ты, что ли, Насти Антохиной внук?