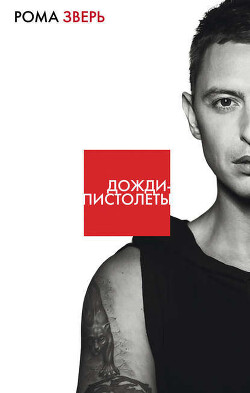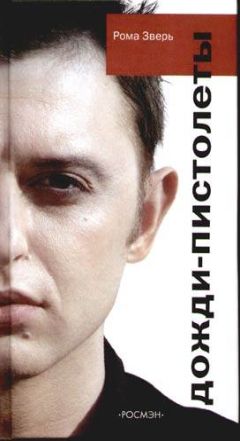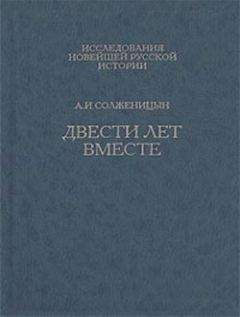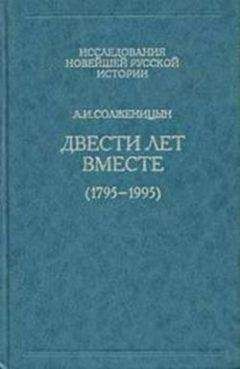Звери. История группы - Зверь Рома
Я думаю, что моя книга тронула своей простотой. Она заключалась в том, чтобы сесть и спокойно рассказать о себе. Мне не нужно было говорить мудрено, привирать, приукрашивать. Удивить какой‐то высокой литературой, конструктором Lego из слов я никого не собирался. Читатель должен был увидеть жизнь человека. И увидел. Идея книги появилась, наверное, осенью 2004-го. Инициатором был Витя Бондарев: «Давай я напишу книгу о тебе, о том, как ты жил в Таганроге». Он написал небольшое литературное произведение, которое нельзя назвать биографией в полном смысле этого слова. Получилось более художественно, чем информативно, с какими‐то отступлениями, образами и так далее. Я прочел, но даже сам ничего не понял.
Потом появилась мысль сделать биографию из трех частей: Витя бы написал про Таганрог, Саша изложил бы свою историю нашего знакомства, а я рассказал бы об одном и о другом. Но вскоре стало ясно, что это тоже неправильный ход – будет еще запутаннее. Тогда мы решили разделить на жизнь до Москвы и на жизнь в Москве, а рассказывать обо всем должен только я. Иначе у всех будет свое мнение, и получатся совершенно разные книги. Вот так сложно прийти к такой простой идее – самому рассказать о себе.
Мы определились, но идея зависла из-за нехватки времени. Возник вопрос: если мне писать книгу, то как я ее буду писать? Сидеть и печатать? Наговаривать на диктофон? Если немного попрактиковаться, я уверенно буду печатать. Но когда ты начинаешь печатать, мысли твои теряются. Мысль‐то гораздо быстрее пальцев. Наговаривать на диктофон, а потом опять же самому сидеть и расшифровывать? Нанять для этого занятия мы никого не могли, мы никому не доверяем. Разве была у нас уверенность, что эти записи не «уплывут» куда‐нибудь в прессу? Мы уперлись в проблему. Нам нужен был человек, которому мы доверяем, который никуда эту информацию не отдаст.
От этой книги требовались внятность, точность, содержательность, она не предполагала какой‐то образности, поэтичности. Да и себя я знаю лучше всех. Поэтому я писал автобиографию сам. Но мне нужен был человек, который бы задавал вопросы. Для меня проще кому‐то рассказывать, чем самому себе. Это вообще какая‐то глупость – сидеть и себе самому о себе вещать. Так и с ума можно сойти. И вот мы встречались, говорили в разных местах, иногда выпивали. Пытались вспомнить, восстановить какие‐то моменты жизни. Где‐то у нас не получалось, были какие‐то нескладушки. Мы потихонечку память мою тормошили, фотографии рассматривали, даже по моей одежде можно было вспомнить какие‐то моменты.
С текстом я ознакомился, когда все было написано, перед самой версткой, чтобы утвердить, все ли в порядке, можно ли печатать. Эту пачку листов формата А4 я прочел дома дня за два. И мне все понравилось, даже немного неожиданным показалось, что я смог так откровенничать. И как будто совесть немножко дернулась – а надо ли было? Стыд, стеснение. В книге таких моментов много, но и читатель на них реагирует точно так же. Здесь все сходится и не может не сходиться. Это трогало при прочтении меня, а впоследствии трогало и людей. И серьезные моменты, и не очень. Например, эпизод с рыбалкой многим запомнился, он же такой кинематографичный: бери и снимай короткий метр минут на десять. Про Свету линия любовная многим нравится, потому что почти у всех было в жизни такое предательство.
Я немного знаю о реакции на книгу ее героев. Со Светой я больше так и не встретился. Да и незачем. Это сродни встрече с одноклассниками. А из знакомых таганрожских я мало с кем виделся. Но, судя по всему, никто особо не обломался, нормальная реакция была у всех друзей и знакомых: «Молодец, все, конечно, круто ты описал, но как ты мог забыть рассказать про тот случай?!» У каждого же свое представление о тех событиях. Но обид ни у кого не было. Даже наш товарищ с «Жигулями», которого я в книге называю по его кликухе Бараном, и тот не обиделся (его, кстати, тоже Ромой зовут), даже он был рад, что о нем написали. Обижаться‐то не на что, нет ни к кому претензий, никакой злобы.
Это было еще и как некое очищение. Ты что‐то эмоционально рассказываешь, снова как бы переживаешь те события, параллельно вспоминаешь что‐то сопутствующее этому сюжету, какие‐то детали. И становится легче. Тебя как бы отпускает. Вспомнил, проанализировал, улыбнулся или поплакал, и все хорошо, до свидания. От болезненных воспоминаний о Свете я избавился. Так ты внутри это держишь, перевариваешь в пятисотый раз, а тут рассказал – и свободен. Это как приходят люди к священнику на исповедь. Так и здесь ты рассказываешь человеку, он слушает. Я тоже кое-что утаил. Иначе любой психолог мог бы взять эту книгу и изучить меня: вот, господа студенты, мы видим перед нами такую‐то личность, давайте-ка разберемся до конца, что повлияло на изменения психические в ней… Что‐то я, конечно, оставил за кадром. А потом взялся за вторую часть книги. Вот она.
Москва
Май 2000 года. Выгребся я из автобуса. Суета, солнце светит, люди свои сумки вытаскивают – все приехали на рынок в «Лужниках», он был прямо на стадионе. Мы договорились встретиться с двоюродной сестрой Наташей на станции метро «Спортивная». Наташа пообещала: «Я тебя встречу возле метро у входа». Смотрю, все идут в одну сторону – к метро, наверное? Я за ними. Действительно, вышел к метро. А сестры нет.
Жду-жду, решил позвонить. Через карточку в автомате, откуда у меня мобильник в те времена? Пока разобрался, где карточку купить, пока пришел в себя от толпы и поездки, прошло немало времени. И вот звоню.
– Рома, ты приехал?!
– Да, стою у «Спортивной».
– Но я тебя не вижу! Ты у какого выхода?
И тут до меня вдруг доходит, что у метро бывает два выхода. Откуда я знал, что такое возможно? Ладно, пошел искать другой, там мы и встретились и поехали до «Щукинской», где Наташа жила в съемной квартире. Как дела, ля-ля тополя. Разговор шел больше про ее дела, о себе мне говорить не хотелось.
От метро до дома добрались пешком, зашли в квартиру. Наташа говорит:
– Бросай сумку, проходи на кухню. Есть будешь? А чаю?
И вдруг выходит здоровенный мужик. Здоро`во, типа. И каким‐то грустным этот мужик мне сразу показался.
– Давай выпьем за приезд?
– Ну давай!
Так я познакомился с Сергеем, Наташиным гражданским мужем.
– Ну и чё, что будешь делать?
– Поживу у вас месяц, может, два, пока работу не найду.
Нормальный Сергей мужик, не возражал. Он работал в автосервисе, ремонтировал машины. А Наташа была официанткой в сети ресторанов быстрого питания «Елки-палки».
Я расселился, мне все объяснили, дали карту города. На следующий день они ушли на работу, а я остался дома один. На полу в комнате валялась книга «Вся Москва», толстый телефонный справочник. И я в нем принялся искать какие‐нибудь продюсерские центры, что‐нибудь связанное с искусством: «Отдых», «Концерты», «Кафе», «Рестораны»… Я набирал номер, и когда абонент отвечал, говорил: «Здравствуйте, я вот пишу песни, пою, хотел бы вам показать свои работы». Мне вежливо отвечали: «Перезвоните через неделю, сейчас никого нет».
Так прошло дня два-три. У меня был телефон Валеры Полиенко, который мне дал в Таганроге Витя Бондарев, мой соавтор песен. И я решил позвонить Валере.
– Алло, Валера, привет, это Рома из Таганрога. Помнишь?
– Конечно, помню.
– Я в Москве.
– В гости приехал?
– Да нет, я насовсем.
– Здо́рово! Надо встретиться, давай через недельку созвонимся.
Я повесил трубку, а сам такой думаю: почему через недельку‐то? Неужели столько дел у Валеры? У нас в Таганроге принято так: если встретимся, значит, вечером. Ладно, я подожду. Продолжил обзвон по справочнику, съездил в город погулять.
Метро меня, конечно, поразило – куда же они все летят? Все эти переходы… Сначала очень тяжело было понять, запомнить, как оно устроено. Что такое «первый вагон», «последний вагон»? Это потом я уже разобрался, когда, назначая встречу, мне говорили: «Встречаемся у первого вагона в центр».