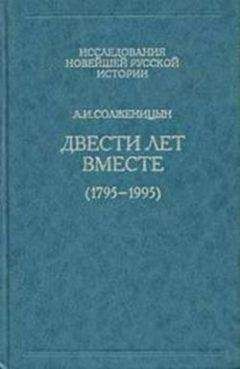Звери. История группы - Зверь Рома
Белый говорил, что Лёха крепко пил последнее время. Потом со всеми поссорился, никого к себе не подпускал сутки. Жестко бухал. Очень. «Потом я решил к нему зайти, – говорит (он сосед через забор с ним). – Захожу, а он висит на сливе». Есть такая проволока, замотанная в пластик, гибкая. И он висит на этой проволоке, на сливе, и табуретка валяется. В саду. Там, где мы палатку с ним ставили. «Я его быстро снимать, а уже никаких признаков жизни нет». Они не могут ничего понять, что произошло, спрашивают у меня, что случилось. В общем, они мне по-мужски объяснили ситуацию. Что произошло. «Мы пришли – он висит». Какое‐то оправдание, типа мы не виноваты. Они мне объяснили, вот так было, мы пришли, а он – все.
Лёха оставил записку. Тетя Фая дала ее мне прочесть. Записка была очень плохо написана – кровью на обратной стороне фотографии. Я не помню, кто был на ней изображен, а написано было что‐то вроде: «Я всех ненавижу. Единственный человек, которого я люблю, – это Рома». Что‐то типа «всех ненавижу, Рома, привет»… Я ее не забрал, она осталась у его мамы. Она ничего никому не отдала. Мне только несколько личных вещей Лёхиных – рубашку, она у меня до сих пор в Москве дома лежит. Еще у меня труба его осталась, которую я так и не продал, она у нас на студии лежит. Когда я уезжал из Таганрога в Москву, я оставил свою гитару дома, потому что не было места в сумке. Решил ее потом перевезти, а вот трубу взял с собой. С ней и приехал в Москву. Не знаю зачем. Мой лучший друг.
У Лёхи были конфликты с собой, его жизнь его не устраивала, потому что он был творческим человеком. Он рисовал хорошо, играл на гитаре, на трубе. Песни писал. Ему хотелось какого‐то творчества. И я ему говорил: «Давай уедем вместе в Москву!» А он: «Да как я уеду, у меня жена, ребенок…» Он повесился, когда у него уже ребенок был.
На поминках меня алкоголь не брал совсем. Я очень много пил, но это мне абсолютно не помогало. Я сидел совершенно трезвый. Мне казалось, что все к смерти относятся очень легко. Он же был мой самый лучший друг! А эти люди недостаточно скорбят, недостаточно хорошо относятся к этому человеку. Я сидел, смотрел на них и думал, что они все недостойны тут быть. Мне было очень неприятно все это видеть, и на другой день я уехал. Я сказал, что никогда больше не приеду в Мариуполь, здесь мне делать больше нечего. Я это всем сказал. И уехал. А в Таганроге меня, конечно, мама поддержала. Мама – это ж мама. После этого у меня глаз покосился, сейчас даже заметно. Нервы.
Может, я мало говорил с Лёхой, может, не убедил его в чем‐то, в каких‐то совместных планах. Я собирался ехать за своей мечтой, а он останется, не сможет. Он так и говорил все время. А я отвечал, что нужно ехать, нужно всегда идти к своей мечте. Ну и что, что родился ребенок? Ничего страшного… Я видел, что у Лёхи не все хорошо в семье, он не очень любит свою жену…
Эта смерть – поворотный момент для меня. Я не могу этого понять до конца. Это же мой друг. Винить я его не могу, а виню. Двоякая ситуация. Я не согласен с ним, а спорить‐то уже нельзя. Его нет. Как можно спорить с тем, кого нет? А хочется. Потому что я не последний человек в его жизни. Поэтому хочется что‐то объяснить ему, а уже невозможно…
Лёха в последнее время был очень злой. Я его не понимал. Отчасти понимал, потому и предлагал уехать в Москву вместе. Но он был агрессивным, как‐то злобно настроен даже ко мне. История со Светой тогда уже подостыла немного, а вот то, что друга моего Лёхи больше нет, – это был край.
В отношении дружбы для меня ничего не изменилось с тех пор. Просто тогда было больше времени – можно было жить, ничего не делать и общаться. Спорить о чем‐то, делиться чем‐то. Сейчас просто меньше времени, но ценности остались прежние. Меня друзья не предавали – видимо, я сделал правильный выбор, ведь друзей выбирают. Друзей выбирают. Это ведь не открытие? Вокруг меня были люди, которые могли стать моими друзьями при прочих равных условиях. Если мне было легко с человеком, я на него ставил, и получалось так, что с ним я больше общался, дружил. Но это ж сразу видно, когда человек подходит тебе: ты понимаешь, у вас общие цели, ценности. Ты к нему тянешься. А он – к тебе.
Приятелей у меня было много, а друзей очень мало. После отъезда в Москву все стало на свои места. Все оказалось правильным по части друзей. Кто был просто приятелями – ими и остались, а кто мне нравился, в ком я был уверен – остались друзьями. Без ошибки.
Потом я защитил диплом. Был выпускной бал во дворце Алфераки – жил такой греческий купец когда‐то в Таганроге. У него был дворец, который впоследствии стал краеведческим музеем. А когда перестройка пришла, коммерция, его опять сделали дворцом, где проходят светские рауты с какими‐то виолончелистами. Вот в этом дворце мы, выпускники колледжей, проводили торжественную часть выпускного вечера – вручение дипломов. Я организовывал все это мероприятие, был его ведущим, под моим руководством программу вечера писали.
Нам вручили дипломы, и мы поехали в кафе, вечеринку в котором организовывал тоже я. Мы там посидели, отметили, потом пошли к морю на набережную. Там были жесткие разборки, беспредел. Меня никто не трогал. Даже из других колледжей. Не потому что я был сильным – я сильным не был, – просто пользовался уважением. Изредка шальной подходил какой‐то, но тут же этого человека оттаскивали, чтобы от меня отстал.
На следующее утро я решил сразу уезжать. У меня был на руках диплом. Я себе давно сказал: будет диплом – сразу поеду. Ночью я завалился к маме: «Мама, я уезжаю утром. Помогай – билетов нет». А у меня мама раньше работала на рынке и знала всех челноков, расписание автобусов из Таганрога в Москву, на вещевой рынок в Лужниках. «Хорошо, сынок».
Я собрал сумку, и она меня проводила. Я сел в рейсовый автобус и поехал. Все. Мама знала, что я собираюсь уезжать, что это все серьезно. Она даже была рада, что я уезжаю. Она же видела, что происходит у меня в Таганроге. Она понимала, что если сын останется, он будет маяться, а в Москве, может, что‐то получится. Она не очень‐то верила, что я стану музыкантом или артистом. Она даже была согласна, что я буду просто работать где‐то в строительстве, чтобы я просто попробовал себя. И она со своим благословением утром посадила меня на этот рейсовый автобус, который ехал в «Лужники».
У меня был только телефон Валеры Полиенко и адрес двоюродной сестры Наташи. Мама позвонила ей и сказала, что Рома едет. В кармане у меня было рублей семьсот, по меркам Таганрога на эти деньги я мог прожить примерно месяц. Я сам копил, еще мама добавила, чего‐то сунула перед отъездом, как это обычно бывает.
Уезжать было не страшно. Наоборот. Надо было уезжать, пора. Я еще за год до окончания колледжа созрел, понимал, что здесь ничего не будет путного. А попробовать проверить, нужен я или нет, могу или нет, надо было. У меня была даже такая мысль, что если я приеду в Москву и у меня ничего не получится, я хоть буду спокоен. У меня была цель – писать песни, играть и петь их людям. Но я прекрасно понимал, что сразу ничего не получится, хоть и очень надеялся на это. Я ехал петь песни. Изначально.
Я хотел стать известным человеком, но я не представлял себя в будущем таким, какой я сейчас. Я видел себя менее заметным человеком. Я мечтал о меньшем. Я никогда не думал, что буду музыкантом такого уровня. Другие картины были в голове. Я думал, буду работать, буду нормальным музыкантом.
Я уехал, потому что не осталось ничего. Ни друзей, ни любимых. Все позади. Никаких обязательств. «В Москву! В Москву!» Я себе не представлял, что буду там делать, но все это меня подтолкнуло. Группы нет. Есть один я. У меня никого нет. Что делать дальше? Куда? В Москву! И я с чистой совестью просто слился.
Досвидос! Всё.
Послесловие
Когда группа «Звери» была в туре, мы доехали до Новороссийска. Ребята сразу на площадку поехали, а я на местное «Наше радио», на интервью. Выхожу с радиостанции, меня встречает какой‐то человек: «Мы из Краснодара, там у вас не успели автограф взять. Помогаем проводить ваши концерты, распишитесь». Я расписался, а женщина, которая с ним была, говорит: