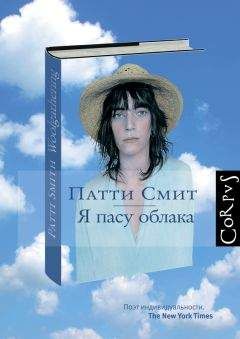Патти Смит - Поезд М
Мураками все равно здесь нет, подумала я. Скорее всего, он в каком-то другом месте, в полной изоляции внутри космического спускаемого аппарата посреди лавандового поля, кропотливо кует слова.
В тот вечер я поужинала одна. Трапеза была изящная: морские ушки, над которыми струился пар, лапша соба, сваренная на зеленом чае, теплый чай. Распечатала подарок Юки. Коробка цвета кораллов, завернутая в плотную бумагу цвета морской пены. На бледной бумаге лежали завитушки лапши соба из префектуры Нагано. Расположились в этой продолговатой коробке, словно несколько ниток жемчуга. Под конец я занялась своими снимками. Разложила их на постели. Большая часть отправилась в стопку “просто на память”, но фотографии подставки для благовоний на могиле Акутагавы кое-чего стоят – вернусь домой не с пустыми руками. Я ненадолго встала, постояла у окна, глядя вниз на огни Сибуи и вдаль, на гору Фудзи. Потом открыла небольшой кувшинчик с саке.
– Салютую вам, Акутагава, салютую вам, Дадзай, – сказала я и осушила чашку саке.
– Не тратьте свое время на нас, – словно бы сказали они, – мы всего лишь бродяги.
Я снова наполнила маленькую чашку и выпила.
– Все писатели – бродяги, – прошептала я. – Пусть однажды меня причислят к вам.
Демоны грозового воздуха
Домой я добиралась в обратном направлении, через Лос-Анджелес, несколько дней прожила на Венис-Бич – это неподалеку от аэропорта. Сидела на камнях и смотрела на море, слушая пересекающуюся музыку – нестройный регги с революционным чувством гармонии, который доносился из нескольких бумбоксов сразу. Питалась рыбными такос, а кофе пила в кафе “Коллаж”, которое находится в одном квартале западнее променада в Венис-Бич. Носила одну и ту же одежду, чтобы лишний раз не заморачиваться. Закатав брюки повыше, бродила по мелководью. Было холодно, но мне нравилось ощущать соль на коже. Не открывала ни чемодан, ни компьютер – не могла себя заставить. Все, что требовалось для жизни, таскала с собой в черной хлопчатобумажной котомке. Спала под плеск волн, много времени проводила за чтением газет, подобранных на пляже.
Выпив последнюю чашку кофе в “Коллаже”, я отправилась в аэропорт, где и обнаружила, что мой багаж остался в отеле. В самолет села, не имея при себе ничего, кроме паспорта, белой авторучки, зубной щетки, дорожного тюбика зубной пасты “Веледа” и среднеформатного молескина. Ни одной книжки, читать нечего, а развлечения на борту, хотя рейс длился пять часов, не предусматривались. Я моментально почувствовала себя в западне. Полистала журнал авиакомпании: в нем описывалась верхняя десятка горнолыжных курортов, потом придумала себе занятие: обводить на двойном развороте с картой Европы и Скандинавии названия всех мест, где я побывала.
Во внутреннем кармашке молескина лежали тысяча триста иен и четыре фотографии. Я разложила фотографии на откидном столике: моя дочь Джесс у кафе “Гюго” на площади Вогезов, два дубля подставки для благовоний на могиле Акутагавы и надгробие поэтессы Сильвии Плат в снегах. Я попыталась что-нибудь написать о Джесс, но не смогла: в ее лице – эхо лица ее отца, того горделивого чертога, где обитают призраки нашей прежней жизни. Я засунула три снимка обратно в молескин, сосредоточилась на Сильвии в снегах. Фото было посредственное, сделанное в ходе того, что я назвала бы зимним покаянием. Я решила написать о Сильвии. Взялась писать, чтобы мне самой было что почитать.
Похоже, я угодила в колею, которая ведет меня от одного самоубийцы к другому. Дадзай. Акутагава. Плат. Смерть от воды, от барбитуратов и от отравления угарным газом – у гибели три пальца, а играет она виртуознее всех. Сильвия Плат покончила с собой на кухне своей лондонской квартиры 11 февраля 1963 года. Ей было тридцать. Стояла одна из самых холодных зим, какие только помнит Англия. Снег пошел на второй день Рождества и больше не прекращался, засыпал доверху придорожные канавы. Темза покрылась льдом, овцы на холмах голодали. От Сильвии ушел муж, поэт Тед Хьюз. Их маленькие дети спали, укутанные одеялами, в полной безопасности. Сильвия засунула голову в духовку. Можно лишь содрогнуться от того, что на свете бывает столь всепоглощающее отчаяние. Таймер тикал, вел обратный отсчет. Еще несколько мгновений, еще есть возможность остаться жить, выключить газ. Что промелькнуло перед ее мысленным взором в те мгновения? Ее дети, зародыш стихотворения, неверный муж – как он с другой женщиной намазывает хлеб маслом? А что сталось с духовкой? – размышляла я. Возможно, следующему жильцу досталась плита с духовкой, отдраенная до идеального блеска, громоздкая усыпальница последнего отражения поэта и прядки светло-каштановых волос, что зацепилась за железную петлю.
Казалось, в самолете невыносимая духота, но другие пассажиры просили у стюардесс одеяла. Я почувствовала первые намеки на тупую, но гнетущую головную боль. Закрыла глаза, поискала в памяти образ “Ариэля” в издании, которое я получила в подарок, когда мне было двадцать. Тогда “Ариэль” сделался книгой моей жизни, душа потянулась к поэту с красивыми волосами – хоть шампунь “Брек” рекламируй – и острой наблюдательностью женщины-хирурга, которая сама себе вырезает сердце. Свой экземпляр “Ариэля” я без особых усилий вообразила во всех подробностях. Тонкая книжка в поблекшем черном матерчатом переплете, мысленно раскрываю ее, на кремовом форзаце замечаю мою юношескую подпись. Листаю страницы, в очередной раз навещаю силуэт каждого стихотворения.
Сосредотачиваюсь на первых строчках – и какие-то озорные силы подкидывают мне размноженное изображение белого конверта, и оно трепещет на периферии поля зрения, мешает, сколько ни напрягаюсь, прочитать стихи.
Видение взбудоражило меня, разбередило совесть – ведь я прекрасно знаю этот конверт. Когда-то в нем лежало несколько снимков, сделанных мной на могиле поэта в осеннем освещении Северной Англии. Ради этих фото я добиралась из Лондона в Лидс, оттуда, через родные места сестер Бронте, до города Хебден-Бридж и старинной йоркширской деревни Хептонстолл. Цветов я не принесла, мной владело единственное желание – фотографировать.
У меня была с собой всего одна кассета с пленкой для “полароида”, но больше и не потребовалось. Освещение было бесподобное, и я снимала с полной уверенностью в успехе, отсняла семь кадров, чтоб уж точно все получилось. Все семь вышли хорошими, а пять из них – вообще идеальными. На радостях я попросила одинокого посетителя, любезного ирландца, сфотографировать меня на траве около могилы Сильвии. На этом снимке я выглядела старухой, но осталась довольна, так как свет был тот же – лучезарный. Признаюсь, я ощутила восторг, которого давно уже не испытывала, – восторг от того, что запросто справилась с трудной задачей. Тем не менее молитву я проговорила как-то рассеянно и, в отличие от других бесчисленных посетителей, не поставила в ведерко у надгробия свою ручку. При себе у меня была только моя любимая ручка, мой маленький белый “Монблан”, вот мне и не захотелось с ним расставаться. Я почему-то вздумала, будто на меня этот ритуал не распространяется, проявила своеволие, полагая, что Сильвия меня поймет, но потом раскаялась.
На обратном пути, пока автомобиль долго вез меня на станцию, я рассматривала фотографии, а затем убрала их в конверт. В последующие часы просмотрела их еще несколько раз. А потом, спустя несколько дней, в моих переездах с места на место, конверт и его содержимое исчезли. Удрученная, я постаралась припомнить все свои передвижения, но так и не нашла потерянное. Конверт и снимки словно испарились. Я оплакивала эту утрату, усугубленную воспоминаниями о радости, которую я испытала, когда делала эти снимки в тот странно-безрадостный для меня период.
В начале февраля я снова оказалась в Лондоне. Доехала поездом до Лидса, заранее договорилась, чтобы меня снова свозили в Хептонстолл. На сей раз я прихватила много пленки, заранее почистила свою фотокамеру “Полароид 250 Лэнд”, кропотливо распрямила изнутри “гармошку”, которая наполовину смялась. Мы ехали, петляя по склонам холмов, все выше и выше, и наконец водитель припарковался перед угрюмыми руинами церкви Святого Томаса Бекета с погостом. Обогнув руины с западной стороны, я прошла на соседнее поле, расположенное по ту сторону Бэк-лейн, и вскоре отыскала ее могилу.
– Я вернулась, Сильвия, – прошептала я, словно она меня ждала.
Я не приняла в расчет, что там будет столько снега. Заснеженная поверхность отражала небо цвета мела, по которому уже расползались какие-то темные кляксы. Для моей простенькой фотокамеры задача была непростая: то слишком яркий свет, то слишком тусклый. Спустя полчаса пальцы у меня заледенели, а ветер усилился, но я упрямо продолжала съемку. Надеялась на возвращение солнца и щелкала безрассудно, извела весь запас кассет. Ни одного стоящего кадра. Я закоченела от холода, но развернуться и уйти не могла – уперлась. Как же безотрадно там зимой, как одиноко. Отчего муж похоронил ее именно там? – гадала я. Почему не в Новой Англии, у океана, где она родилась, где соленые ветра могли бы кружить по спирали над именем “PLATH”, вырубленным в ее родном камне? В этот момент я ощутила неудержимые позывы и вообразила, как извергну из себя небольшой ручеек мочи, и мне даже захотелось это сделать, чтобы она ощутила тепло человеческого тела близко-близко.